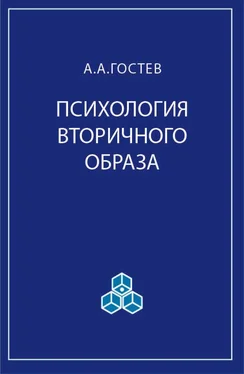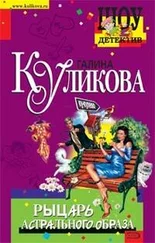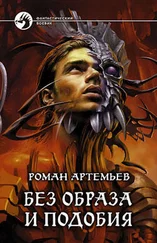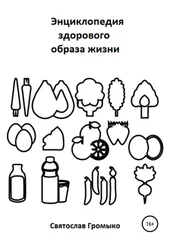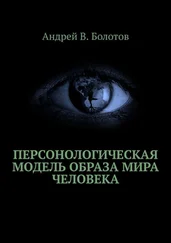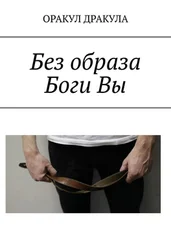Терминологическая нечеткость обязана происхождению термина «образ» во многих языках. В русском языке это слова «образ», «воображение», «отображение», «изображение». Этимологически корни слова «image» ( англ. ), «imagen» ( исп. ) и т.п. восходят к латинскому «imago», корневая метафора которого указывает на имитацию (imitari) в процессе копирования оригинала (первоначально при изготовлении скульптурной копии). «Образ» по Далю, означает модель, вещь, по размеру и подобию которой другие вещи должны изготовляться.
Терминологические проблемы во многом определяются влиянием теоретической позиции исследователя. Для психоаналитика, например, «образ» дуалистичен (осознаваемые и неосознаваемые образы). За любовью к операциональным определениям, за «строгой объективностью», за нежеланием определять вторичный образ в терминах субъективного опыта обычно скрывается бихевиористская ориентация. Для «когнитивистов», для которых переживание образа не является определяющей его чертой, характерно определять «образ» как способ кодирования и переработки информации [221; 412; 440]. Когда объект отражен без осознания, характерно использование термина «репрезентация». Дефиниция зависит и от исповедуемой теории восприятия. Концепция Найсера, например,– образец «некартиночной» теории, в которой «образ», как и «перцепт», является некой «схемой», «пространственным планом» [221]. Терминологические проблемы усиливаются несовпадением субъективного опыта самого исследователя с его теоретической трактовкой вторичного образа. Так, по мнению Арнхейма, «вюрсбуржцы» могли не отмечать образов мышления вследствие несовпадения опыта испытуемого с размытым понятием образа [148, ч. 1]. Отрицание же образов бихевиористами вполне может быть связано с тем, что кто-то из «отцов» данного направления просто не помнил своих снов. С другой стороны, приверженность Титчинера к интроспекционизму может быть объяснена тем фактом, что он был эйдетиком. Запутывает также и то, что термин «образ» употребляется при описании таких сложных психических явлений, как сны, грезы, галлюцинации, образы измененных состояний сознания и т.п., где чрезвычайно важны факторы ситуации и состояния сознания. Так, в процессе литературного творчества в психотическом состоянии автор может как бы видеть воочию своих персонажей. Сновидения и галлюцинаторноподобные образы, в свою очередь, могут попасть под широкое определение воображения как перекомбинирования опыта субъекта.
Итак, «богатство» существующих дефиниций отражает многоаспектность образной проблематики, но не охватывает ее (даже на уровне фактологии). Основными причинами терминологической неоднозначности являются: а) различия в теоретической позиции исследователя, б) использование близких по смыслу терминов в различных значениях (что связано, в частности, с трудностями перевода терминологии с одного языка на другой), в) перенесение значения термина с одного круга образных явлений на другой. Следует различать теоретические термины, включенные в логическое описание психического, и эмпирические термины, предназначенные для описания непосредственно наблюдаемой реальности [4, c. 18]. В психологии, подчеркивает В.М. Аллахвердов, нет ясных и общепринятых определений терминов. Но поскольку отказаться от существующих терминов нельзя (в них отражается уникальный опыт самосознания человечества), то предлагается использовать привычную терминологию как сложившуюся классификацию накопленного опыта психической жизни. Иными словами, термины следует рассматривать как предназначенные для удобного описания феноменов и соответствующих им эмпирических процедур, т.е. как понятия операциональные, а не теоретические [4, c. 22–24]. Использование терминологии в данной книге соответствует этой идее. Вводимое представление об образной сфере личности способствует установлению терминологического порядка.
Необходимыми предпосылками теоретического осмысления вторичных образов является усиление системных взглядов, в частности, сведение воедино разных отношений: например, образа к объекту (проблема адекватности отражения), образа к самому субъекту (проблема понимания человеком феноменологии своего внутреннего мира), образа к субстрату и условиям, порождающим и детерминирующим образный опыт. Системное рассмотрение образной сферы человека предполагает изучение: 1) характеристик вторичных образов различного класса; 2) полифункциональности образной сферы; 3) структуры образной сферы как целого, раскрываемой совокупностью основных классов вторичных образов, способами их группировки и упорядочивания, характером взаимосвязи (координация и субординация) соответствующих «образов-элементов» 5 5 При этом необходимо, например, более ясно определить, в чем состоит общность и различие классов вторичных образов, каковы закономерности связи между ними – по функциям и содержанию, включая их субъективную форму. Предстоит, например, проследить закономерности непрерывности–дискретности взаимопереходов между близлежащими классами вторичных образов.
; 4) процессов, протекающих в образной сфере (особенности переработки информации на уровне конкретных классов вторичных образов), и состояний, в которых она может находиться (здесь необходимо выделять активные и пассивные, осознаваемые и неосознаваемые компоненты); 5) активности-реактивности образной сферы по отношению к другим системам психики и внешним воздействиям; 6) развития образной сферы и динамики формирования вторичных образов в онто- и культурофилогенезе; 7) взаимодействие образной сферы с окружающей средой, особенно информационной.
Читать дальше