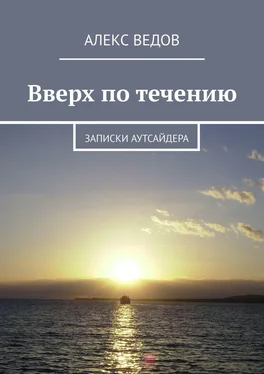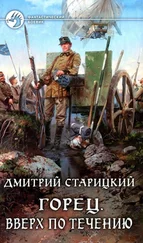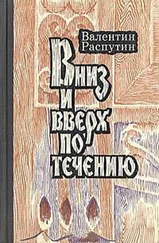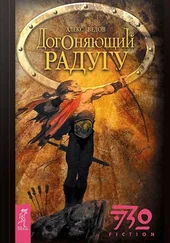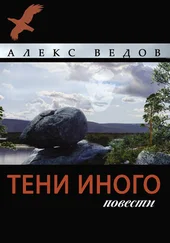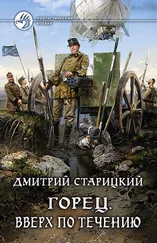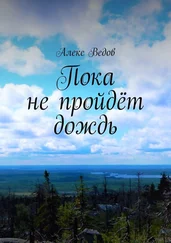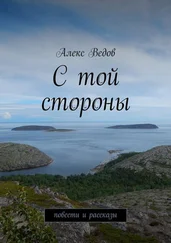Сюда же относится и то, что я никогда не считал себя обладателем какого-либо статуса или представителем какого-либо «слоя» в обществе. Для меня статус, свой или чужой – всегда условность, нечто не соответствующее реальности. Приписывают мне другие люди какой бы то ни было статус или нет – меня всегда как-то мало заботило. И вообще я неприязненно отношусь к озабоченности людей чужими статусами. Шире скажу: ко всяким символам и условным знакам в различном положении людей относительно друг друга. А также к тому, какое это место традиционно занимает в общественном сознании. У меня с детства есть стойкое ощущение, что неподобающе большое. Но опять-таки всю жизнь отмечаю, что думает так же мало кто.
Когда я по воле обстоятельств оказываюсь вовлечённым в дела, заботы, коллизии других людей (чего стараюсь избегать), то всегда оказываюсь, мягко говоря, не в своей тарелке. Честно признаюсь: для участия в коллективных делах я неважно психологически приспособлен. Для меня всегда составляет большую трудность быстро ориентироваться в таких ситуациях и занимать нужную, выгодную позицию, избирать подобающую линию поведения. Я даже часто не в состоянии понять, какой она должна быть, эта подобающая линия (я с годами стал склоняться к мнению, что её в большинстве случаев просто не существует).
Не то чтобы я был непроходимо глупым, невоспитанным и неотёсанным – наверное, при достаточно критичном к себе отношении всё же так не сказал бы. Дело в описанной врождённой психологической отчуждённости от мира. Понятно, что это… свойство (возможно, правильнее назвать его недостатком) жизненному успеху способствовать не может.
Я очень не люблю вот это неуютное состояние души, неизменно сопровождающее моё участие в чужих делах. И стараюсь избавляться от него как можно скорее. Вовсе не потому, что избегаю всякой ответственности. Наоборот, в ряде случаев у себя отмечаю её выше, чем у большинства других. Просто предпочитаю, чтобы к моим мотивам поведения не примешивались чьи-то посторонние – с их неизбежной долей бестолковщины, соображений личной выгоды, разного рода эмоций и желаний не лучшего сорта – короче, всего того, что в конечном счёте ведёт к хаосу и конфликтам.
Мне больше по душе сугубо индивидуальная ответственность и деятельность. И я благодарю судьбу, провидение или не знаю, кого ещё за то, что мне была предоставлена возможность зарабатывать на жизнь именно таким образом. И ещё мне здорово повезло в том, что у меня никогда не было никаких подчинённых, а с немногочисленными начальниками не было особо зависимых и сколько-нибудь тесных отношений.
Жизнь не всегда несправедлива. Иногда и аутсайдерам она в чём-то идёт навстречу.
*
Ещё Пифагор весьма точно подметил, что жизнь подобна олимпийским играм, куда одни ходят состязаться, другие – торговать, а третьи – смотреть. Можно спорить (я не буду), но представителей последней категории он считал самыми счастливыми. Вероятно, для образа жизни и мироощущения древних греков это было справедливо. Но сегодня с ним вряд ли многие бы согласились. Если основным критерием счастья считать материальный достаток, то самыми счастливыми на сей момент следовало бы считать представителей второй категории (особенно в наше время в нашем государстве). Судя по всему, они вообще доминируют в современном мире, они задают систему ценностей и соответствующие ей тип мышления и форму человеческих взаимоотношений. Они теперь в лидерах коллективного заплыва. Однако дай им Бог здоровья и каждому по куче призов в конце, я не о них. Я о тех, кто наблюдает и размышляет над увиденным, потому что сам из них.
Я в гораздо большей степени созерцатель и в особенности «думатель», чем деятель (хотя прожить, избегая вообще всякой деятельности, ещё никому не удавалось, и я тут не исключение). Сразу должен сделать существенную оговорку: «думатель» в моей трактовке – это не мыслитель. «Мыслителем» принято называть того, чьи результаты «думания» в какой бы то ни было сфере высоко оценены, получили всеобщее признание, оказали сильное влияние на многие умы. Я же на это никоим образом не претендую. Я называю себя так, сознательно делая акцент на процессе, а не на результате; чтобы подчеркнуть, что думание является для меня естественным состоянием, моей личной преобладающей активностью. На думание уходит, наверное, большая часть энергии моего организма. Можно даже сказать, думать – моё призвание по жизни, безотносительно к предполагаемой или реальной ценности плодов моего «думания». Это может восприниматься по-разному, и сам я не собираюсь трактовать это в понятиях «хорошо» или «плохо», «выше» или «ниже», – просто констатирую, что так устроен.
Читать дальше