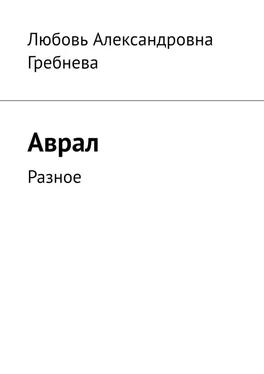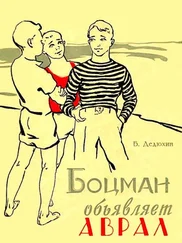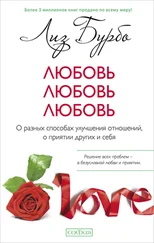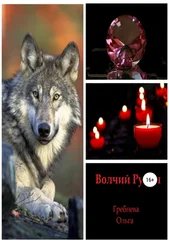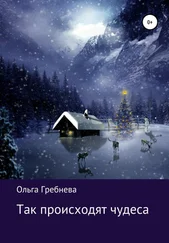Татьяна – явление небывалое в высшем свете: её здесь любят ! Звериным чутьём люди чувствуют её внутреннюю суть и тянутся к ней: и дамы, и старушки, и мужчины, и девицы. В чём же эта внутренняя суть? «Добродетель»? О, не надо оскорблять Татьяну этим бюрократическим словом! Нету в ней никакой добродетели, в ней есть человечность . (А Белинский обвинил Таню ещё и в тщеславии добродетелью… Эх!) И есть в Татьяне ещё нечто сверх того, что трудно определить словами, но оно воздействует на окружающих неотразимо: некая сила и некая тайна…
Верно, что Татьяна тяготится светом, для неё светская жизнь – лишь видимость жизни. Отчего же не оставить её? Наверное, всему своё время. А сейчас, можно сказать, эта жизнь – её долг, задача, работа:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всё тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut(Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)
Теперь это французское выражение переводится ёмким русским словом «порядочность», причём имеется в виду не показная, а глубинная, внутренняя порядочность, присущая человеку. Вот в этом и состоит нынешняя задача Татьяны: в высшем свете должен присутствовать этот «верный снимок». И посмотрите: её присутствие действительно нужно здесь. Ей каким-то образом удалось сделать так, что свет приспосабливается к ней , а не наоборот. Люди при ней стыдятся пошлости, подтягиваются, стараются быть чуточку выше самих себя. Как у неё это получилось? Ведь никому себя не противопоставляла, не произносила обличительных речей, как Чацкий… А так – «тихо, просто» оставалась сама собой. Одно слово – гений! Когда же Татьяна станет необходима где-то ещё, она оставит свет тотчас и без малейшего сожаления, тут можно не сомневаться.
А что же представлял собой Евгений к моменту новой встречи с Татьяной Лариной? Он проходит свой период безвременья. На балу он появляется в полуневменяемом состоянии. Где его носило всё это время? Где он был вчера? Как попал сюда – на этот светский раут в Петербурге? А главное – зачем? Лучше у него это не спрашивать, он не знает. Он теперь страшно уязвим: панцирь его разбился, «опричнина» разбежалась. Евгения выводит из забытья шок – явление Татьяны здесь, где её не может быть, потому что не может быть никогда; явление Татьяны – преодолевшей и превозмогшей, чего тоже «не может быть никогда»… Ну да что я буду пересказывать Пушкина. Если раньше Онегин как-то ещё держал своё чувство под контролем (хотя этот «контроль» то и дело выходил ему боком), то теперь, что называется, полетели все тормоза: безудержная страсть овладевает им, как болезнь. Он вдруг обнаружил, что, оказывается, привык считать Татьяну своей. У него и документ есть, то бишь письмо хранится, где ею собственноручно написано: « То воля Неба – я твоя! ». И теперь она недосягаема для него. КАК ЭТО ТАК?!
Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.
Такое состояние можно определить как воспаление чувства собственности. Очевидно, это и есть то самое «мелкое чувство», в котором упрекнула Онегина Татьяна:
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?
Она только неверно поняла источник этого чувства, обвиняя Евгения в тщеславном стремлении к светской «победе». Однако обидную примесь «мелкого» и «рабского» в страсти Онегина Татьяна уловила безошибочно, и это рабское ей претит. Так реагировать может только свободная душа. Ведь в её любви, даже в самом начале, была безоглядность, было даже безрассудство, но рабства не было. Нет его и теперь.
« Трепет за своё доброе имя в большом свете »? А если не только за своё, и даже главным образом не за своё? Почему нельзя предположить, что Татьяна видит в своём муже не игрушку, не мебель, не средство к чему бы то ни было, а человека?
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.
Ох, как я была солидарна с В. Г. Белинским, какой резкий протест всегда вызывали во мне эти заключительные слова Татьяны. Они казались мне изуверством, и было мучительно обидно за неё. И только в 2004 году я начала догадываться, что, поступая так, она не насилует себя, а напротив – слушается себя. Она ведь не говорит, например: «Я должна быть верна» или «Мораль высшего света требует от меня…» Она говорит просто: «буду». А спроси: почему? Она и ответить не сможет. Буду – и всё. Логика здесь одна: не могу иначе. Не надо забывать, что Татьяна – художник жизни. А художника не спрашивают, почему он творит так, а не иначе. И Пушкин понял Татьяну, как художник художника.
Читать дальше