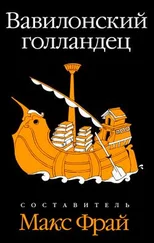От этого разглядывания радость захватила его всего, затопила до самого горла. Он едва смог ее описать, найти слова, чтобы верно передать ее силу и ее смысл. Он говорил: это место моей силы и свободы, это работа, которую я люблю и которая получается так же свободно и естественно, как дыхание. Которая имеет смысл.
Потом он нашел еще такие слова: так рыцарь узнал бы свой меч.
Но, еще не успев отдышаться от радости и гордости, царивших в нем, он стал шарить вокруг, ощупывать руками привычную картину мира, искать возможность списать эту картинку на что-то здешнее, точно бывшее. Например, большая комната в институте, с аквариумами, чучелами рыб, столами научных сотрудников, с бородатым ихтиологом, знакомым его матери, который давал поиграть толстую многоцветную шариковую ручку, привезенную из-за границы… Бумажных куколок-принцесс, которых для него вырезали из бумаги мамины коллеги. Там, конечно, были пишущие машинки, даже и с латиницей, наверное. Он не мог утверждать это с точностью, но хватался за эти воспоминания и держался за них изо всех сил. Он не мог не понимать, что там совсем другой свет – прямой и однозначный электрический свет, и там есть аквариумы, чучела, ручка, принцессы, а пишущая машинка не оттуда.
Но он честно попытался.
«У людей с высокоразвитым интеллектом бывают сколь угодно фантастические и невероятные бредовые идеи. Критическая способность не ликвидируется, а ставится на службу бреду».
К. Ясперс
Записки сумасшедшего. Вопросы языкознания
Когда я в первый раз пришел к М., я захотел увидеть город. Будь с этим желанием, сказала она. Говоря попросту – сиди и желай этот город, желай увидеть его, отдайся своему желанию, дыши… им. Но я не увидел города. Я только почувствовал… свет. Свет был слева, такой, какой бывает над морем, – живой, текучий и трепещущий. И его было много, яркого играющего света, но я видел его как будто в маленькое окошко и больше ничего не мог различить. Края поля зрения были размыты и затемнены. В остальном картинка была точно такой, какими бывают воспоминания: четкой и определенной, и в то же время утекающей, растворяющейся при попытке сосредоточиться на деталях, если не разглядел их когда-то.
Первое, что я сделал, – я сказал себе: это было в детстве, здесь, мы ездили на море с мамой, если идти со станции к пляжу, море было слева.
Да, я это помню.
Я был уверен, что видел сейчас совсем другое море, но этого ведь просто не может быть. Так не бывает. Нельзя верить всему, что думаешь.
Больше я ничего не видел про море в тот раз. Только запомнил: оно слева.
Если бы я жил в том городе, окно должно было бы выходить на север.
…
Тот, первый, сеанс и еще один, следующий, я не записал сразу, только через пару недель. Очень жалею об этом, потому что невероятно трудно восстанавливать последовательность событий даже по горячим следам. Слишком много эмоций, слишком этот опыт не укладывается в рамки обычных представлений. Теперь я записываю всё, что могу вспомнить, каждый раз сразу после работы, и то порой путаюсь и не могу вспомнить последовательность.
Тогда я был слишком оглушен открывавшимися картинами и тем, что они вообще открываются. Я теперь не вспомню, на каком месте, от какой мысли или картинки я так вцепился в левое плечо, и стал его разминать и с силой тереть, и делал это довольно долго. Я чувствовал, что это движение как-то связано с тем, о чем я думал, с городом. И я, конечно, честно попытался найти объяснение в моем здесь-и-сейчас: какую-то травму, переживание, случай, – но не смог найти.
У меня осталось не много записей после того сеанса, и не только потому, что память меня подвела. Есть еще одна причина. Я смотрел на играющий морской свет и на пишущую машинку, и мне приходили в голову мысли об этих картинах, рождалось понимание связей одного с другим, появлялись догадки и опасения… Как будто я и в самом деле был там, видел всё это, знал и понимал происходящее, жил им. Это совершенно не укладывалось в привычную мне позитивистскую, рациональную картину мира. Кроме того, картинки я мог описать, они имели хоть какую-то определенность и постоянство. Но мысли, мелькающие в голове, – как их удержать? Как поверить, что тогда была именно такая мысль, а не то, что додумалось поверх нее после? Как поверить в то, что мне действительно не хватало слов в какой-то момент, и я не мог эти слова вспомнить, стал на ходу изобретать другие, вполне укладывающиеся в логику русского языка – но не существующие в нем? Я даже не помню, почему я думал об этих страшных вещах и для чего мне понадобились слова, называющие их. Но я помню: я их думал, произносил внутри себя.
Читать дальше