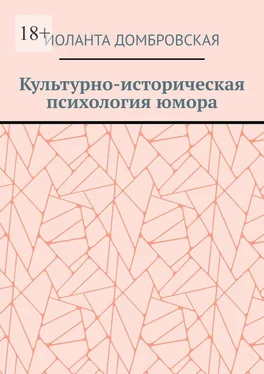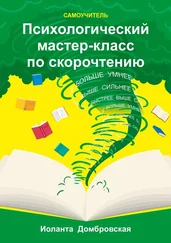Д. А. Леонтьев считает, что главной для форм юмора «является проявляющаяся во всех видах и специфичная для юмора бытийная форма его существования как конкретного проявления «здесь-и-теперь» (Леонтьев Д,А, 2000). Этот момент уникален, эксцессивен и создает свободу и вариативность человеческого существования. Повторенное – не смешно. Недосказанное досказывается в неуловимой межличностной атмосфере юмора. Юмор восполняет пробелы формальной и дедуктивной логики. Юмор вписывается в «логику смысла»: «…юмор – это искусство поверхностей и сложной связи между поверхностями. Начиная с избыточного равноголосия, юмор выстраивает свое единоголосие… – единоголосие Бытия и языка – всю вторичную организацию в одном слове» (Делез, 1995,с.298). «Вторичная организация на поверхности языка возвращает что-то из самых глубочайших шумов, глыб и стихий в Единоголосие смысла» (там же; с.298). Юмор, смех возвращает мир к изначальному хаосу (Д. С. Лихачев), из которого возможно новое развитие, свобода и вариативность личности. Бытийные проявления юмора создают связку юмора и смысла, юмора и творчества. Последнее проявляется в шедеврах мировой культуры и в повседневной жизни людей, как отдушина, всплеск энергии, логика смысла. Повторим, что юмор мог бы развиваться до бесконечности, если б не одно «но». И это «но» – «но» языка. Язык ограничивает юмор – чувством. Говорят не «юмор», а «чувство юмора». То есть юмор поощряется языком как воспринимающая способность. В этом мудрость языка и самоограничение развития юмора. Само языковое бытие юмора задает ему реактивный, зависящий от объекта, воспринимающий характер. Уникальность, неповторимость, связь со смысловой логикой и языковым бытием являются бытийными, экзистенциальными характеристиками юмора и внимание к ним представляет экзистенциальный принцип развития психологического знания. Благодаря этим чертам бытийные характеристики юмора смыкаются с вышеописанными его орудийными характеристками, и последние поглощают бытийные черты юмора. Повторим, что наибольшее родство проявляют юмор и смысл.
Юмор, являясь и способностью человека, использует принципы сравнения, обобщения, переноса, аналогии и т. п. иначе, чем формальная логика. Он по-другому восполняет пробелы понимания, он решает «задачу на смысл» не так, как формальная логика и не так, как смыслообразование. Эмпирических исследований, сравнивающих механизмы смыслообразования и юмора пока нет, но они были бы интересны.
Мы находим родство юмора и смысла в том, что они «обслуживают» понимание и являются механизмами личностной регуляции деятельности и жизнедеятельности. Различия же в том, что это разные психологические механизмы с разными принципами регуляции.
Методологически родство юмора и смысла в том, что они оба обобщаются категорией «психологического орудия». В той мере, в какой смысл осознан и произволен он является орудием воздействия человека на самого себя, на свой внутренний мир, то есть средством саморегуляции и саморазвития. Когда же речь идет о влиянии, то есть трансляции смысла, смысл всегда является орудием. И «удвоенным» орудием, когда речь идет о трансляции смысла юмора.
Итак, категория «психологическое орудие» является обобщающей для ряда психологических понятий. Само же это понятие входит в парадигму, задаваемую понятием регуляции. Использование орудия имеет цель – и цель эта состоит в воздейстии, то есть регуляции социальных отношений, своих отношений с жизненным миром или в саморегуляции. Однако, высоко ценя научную категорию «психологического орудия», в последующих главах мы чаще используем слово «средство», чтобы не провоцировать смысловые ассоциации слова «орудие» с некой войной или трудом, хотя они и имеют смысл. Используем слово «средство» также и потому, что научное понятие «средство» обладает еще большей методологической нагрузкой (см. Федоров, 2012). Так, согласно Федорову, средство служит промежуточным звеном между объектом и субектом. Превращение средства в предмет исследования задает основную характеристику неклассической парадигмы науки. Постнеклассическая же парадигма акцентирует триаду субъект – средство-объект. В нашей работе о юморе как средстве регуляции, мы акцентируемся на средстве. Но рассматриваем его таким образом, что переходим от неклассической парадигмы к постнеклассической и даже в некоторой степени восстанавливаем традицию классического знания, в центре которого – объект. Само употребление нами понятия орудия – это уже восстановление классической традиции, поскольку средство как орудие – это уже «вещь», но особого рода: материальная вещь, порожденная из идеального психического состояния механизмами отчуждения психического в рефлексивно и произвольно используемое орудие, средство воздействия на себя и других. О механизмах отчуждения как материализации идеального будет сказано далее. Здесь же скажем, что науке необходимо восстановление прерванной классической традиции, акцентирующей объектность мира, и наше исследование юмора в некоторой степени это осуществляет.
Читать дальше