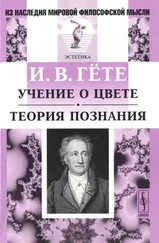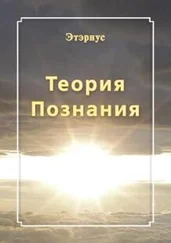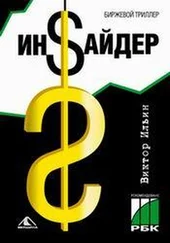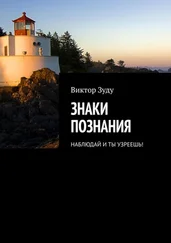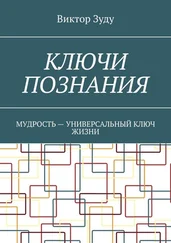Программа архе исторически реализовалась в двух вариантах: субстратном и субстанциальном. Первый сводился к отождествлению основоположного с конкретной природной стихией («вода», «воздух», «огонь» и т. п.); второй в трактовке начального исключал предметную привязку: основа рассматривалась фактурно неспецифицированным сущностным (апейрон, гомеомерии, бог). Концептуальное преимущество второго толкования – универсальность, абстрактность, избегающая искусственных, вычурных схем сведения и выведения реального мира из отдельных его компонентов. Последнее вслед за Анаксимандром, вероятно, уже четко осознавал Ксенофан, предложивший пантеистическую картину действительности.
В постантичную эпоху субстанциальный подход, окончательно вытеснив субстратный, утвердился в философии в качестве всеобщего. Средневековье, Новое время породили многочисленные редакции онтологии, не выходившие за рамки ее прочтения как компендия данных о свойствах бытия, атрибутах мироздания. Кульминация линии (через Декарта и картезианцев, Лейбница и лейбницеанцев) – натурфилософия Вольфа и его эпигонов (вплоть до Рихтера, Эшенмайера, Кильмейера), выявлявших скрытые качества, тайные силы вещей.
Позитивная роль философской онтологии (натурфилософии) в истории определялась самим ее назначением: стремлением теоретизировать по поводу фактов на эмпирической стадии науки, когда наука (ввиду неразвитости) не могла справляться с этой задачей.
Подмена натурфилософией теоретического знания, однако к рубежу XIX столетия, выглядя полным анахронизмом, приняла весьма одиозную форму противопоставления опытного и сверхопытного исследования. В четком, императивном плане альтернативу «научная эмпирия – натурфилософская теория» сформулировал Шеллинг, утвердивший: «Да будет вражда между философией и наукой». Набирающий силу, день ото дня крепнущий положительный опыт, однако нещадно разоблачал беспредметность, иллюзорность, несообразность, предвзятость фантастических натурфилософских конструкций. Общий дух неприятия естественнонаучной интеллигенцией натурфилософских претензий на подмену науки выразил Берцелиус, который, отмечая профессиональную некомпетентность натурфилософов, рекомендовал: «Современным натурфилософам следовало бы в собственных интересах касаться лишь вопросов, стоящих вне контроля естествоиспытателей».
Благотворный позитивный прогресс предметной науки, разрушив натурфилософию как модус исканий, поставил под сомнение значимость спекулятивной онтологии – умозрительной доктрины миростроя. При соответствующей развитости научного интеллекта необходимость в какой-то наднаучной теории бытия отпала. Тем не менее онтология в философии сохранилась. Сохранилась под фирмой не натурфилософии, но специфической теории бытия, вводящей образ реальности, с которой коррелируются предметоориентированные конструкции ищущего интеллекта. Выразимся тщательнее.
Содержание духовной (предметной) сферы относится к мыслимому, а не натурно существующему. «Бытие» само по себе не есть предмет осязаемый, реальный; оно не сообщает материального (фактического) существования. Между тем в рассуждениях на абстрактно-концептуальном уровне «бытие» через набор субстантивных постулатов, постулатов значения вводится, приписывается. Так говорится о кварках, партонах, фридмонах, планкеонах, гравитонах, тахионах, торсионных полях и т. п. как о неких сущностях, наделяемых существованием. В «чистом», наиболее отрешенном, достаточно произвольном виде существование задается в математике и логике. Излишне доказывать, что изучающие возможные миры и опирающиеся при этом на аксиоматику указанные дисциплины зачастую никак не соотносятся с вещным натурно-практическим миром (нормированное пространство, где «нормируемость» равносильна наличию выпуклой ограниченной окрестности нуля).
В когнициях, очевидно, оценивается не подлинный реальный мир, а некие его состояния, выражаемые в значимых для опыта понятиях. «Бытие есть понятие, а не существование», – настаивает Бердяев, борясь с натуралистической метафизикой, которая объективирует и гипостазирует процессы мысли, «выбрасывая их вовне и принимая их за «объективные» реальности» 18.
Представляющие предмет бердяевской критики «объективация», «гипостазирование» осмысливаются Фуко под фирмой «интерпретация». Интерпретация, отмечает он, никогда не может завершиться. Это потому, что не существует никакого «интерпретируемого»: «Не существует ничего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как все, в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других знаков. Если угодно, не существует никакого interpretandum, которое не было уже interpretans. В интерпретации устанавливается скорее не отношение разъяснения, а отношение принуждения. Интерпретация не поясняет некий предмет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить… Интерпретируется не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следующее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в интерпретации – сам интерпретатор…» 19(Сравнивая с высказанными ранее соображениями о символическом конструировании мира через выстраивание сценографий, социально конституируемых онтологий реальности 20).
Читать дальше