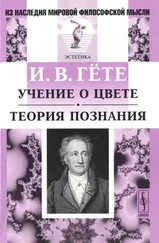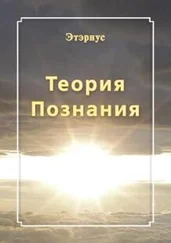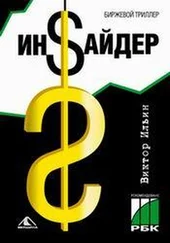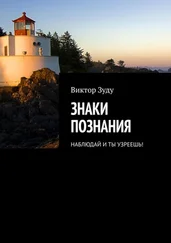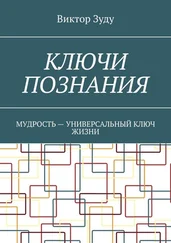Цена, смысл, назначение человечества (истории, культуры, общества) уясняются погружением в стихию актуального вершения жизни, устроения сущего. Смысл бытия – само бытие. Оно, быть может, трудно выносимо – неизвестность самопроизвольности вселяет ужас, но этот ужас все-таки предпочтительнее кошмара неизбежности существования. Лучшее и худшее в нас – не от запрограммированности, а от нас самих. Наш бог – бег. Не по проторенной колее, тем не менее и не как попало, – с оглядкой на разумное, доброе, вечное, посеянное в веках, – осуществляем мы бег свой в незнаемое грядущее.
«Живешь, смотришь на людей, и сердце должно либо разорваться, либо превратиться в лед», – печалился Шамфор. Ламентация лишается привкуса драматического, если представить, что дело человека связано с его назначением. Такой поворот требует принятия базового рамочного условия в качестве предпосылки размышления. Разумеется допущение унитарности всемирно-исторического процесса.
Если руководствоваться единственно приемлемой для нас сравнительно-аналитической точкой зрения и выводить назначение человечества из самого факта человечности, объективного существа человека, надлежит перво – наперво оговорить исходное. Исходное же – двуединый вопрос единства истории и ее факторов. В отношении первого признаем: мы – последовательные, убежденные адепты естественноисторического монизма. История едина; ее унитарность – в объективно-эволюционном происхождении. В отношении второго уточним: опять-таки мы остаемся апологами естественноисторичности. Говоря откровенно, нам никогда не была близка вероучительная схема Августина-Ясперса, усматривающая единство истории в мистериях творения богом человека и грехопадения. Сверхъестественное наделяет смыслом, означивает нечто лишь для субъекта, потерявшего вкус к разуму. Те же, на кого не действует фидеистическая установка, принимают в расчет мир не как фантазм, но как данность.
Человек как существо самоценное есть предмет, бытие которого само по себе есть цель, он есть сущее для себя; остальное все – его обслуживающее. С данных позиций не человек – креатура бога, а бог – креатура человека. Вникнуть в судьбу человека позволяет не сакрализация, а взвешенная динамическая натурализация – прослеживание упрочения человека разумного. Подпочва единства истории – не священнодейство, задающее тривиально чудотворный ряд: творение – грехопадение – воплощение – искупление – воскресение; ось жизни в ином – достойном движении к материальной и духовной раскрепощенности, полноте самореализации через социальный и экзистенциальный прогресс, восхождение к гуманитарно высокому.
Творец сущего имеет судьбу субстанции. Традиционная метафизика наделяла данной судьбой бога, в оправдание его деяний разворачивала теодицею. Нетрадиционная метафизика, не могущая быть креатологией и только могущая быть «метаантропологией акта» 16, в оправдании «дел преобразовательных славных» разворачивает антроподицею. Человеческая история перестает быть историей придания «смысла бессмысленному» (Лессинг) – потусторонний всесильный вседержитель вполне способен обойтись без зеркальной несовершенной копии (а как иначе? – каждый вслед за Шелером вправе обострить: «Если бог всемогущ и всезначим, как же он мог сотворить такого разорванного человека, как Я?» 17). Откуда следует: вникнуть в судьбу сущего, его назначение предполагает выработать серьезную версию его самостановления вплоть до высшей сферы мироздания – упрочения Homo sapiens. Приступая к эскизу такой версии (сплачивающей «гонию» и «софию»), оттолкнемся от соображений эволюционно-исторических.
Капитальнейшая проблема ищущего ума – проблема формо- и структурообразования в мире. Ход морфогенеза во многом не прояснен и поныне. Как идут цепные реакции усложнения? Как строится целое из частей? Как работает эволюционная фабрика действительности? Данные и однопорядковые им вопросы не дают покоя людям, начиная с древности. Античные мудрецы проблему возникновения мирового порядка (космоса) из хаоса толковали как проблему архе: космос с помощью логики выстраивался из мысли, из некоего предельного сущностного, устойчивого, автономного основания – непреходящего в череде вещей, порождающего наблюдаемое предметное много- и разнообразие. Архе и есть подобное первоначальное основание, ответственное за происхождение сущего.
Читать дальше