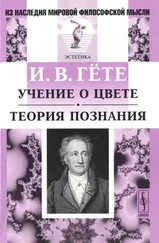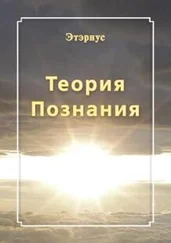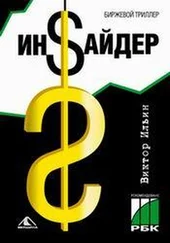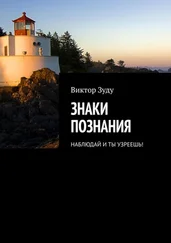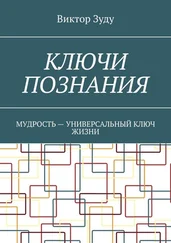с) «мысль есть самообнаружение реальности», – высказывает Франк. В контексте не интуитивисткого, а креационистского прочтения, соображение приобретает вид: всякое предметное бытие как внутреннего, так и внешнего мира следует соотносить с человеческим (наука – геоцентрична, созидание среды обитания – антропоцентрично). Как верно отмечает Шелер, «все формы бытия зависят от бытия человека. Весь предметный мир и способы его бытия не есть «бытие в себе», но есть встречный набросок, «срез» этого бытия в себе, соразмерный общей духовной и телесной организации человека» 15. (Этим – очередное подчеркивание, – современная метафизика суть не космология, не теология, но культуро-, историо-, социо-, антропология).
Реальное – подобное символического (самоочевидность обратного не допускает, однако, наивно реалистического прочтения), – упрочается в опосредствующей сетке реифицирующих преобразований подобия. Учитывая, что человекоосваемая реальность есть средоточие объективаций человеческих замыслов (моделей), приходится отдавать должное платонизму, настаивающему на сообразности бренного (тленного, тварного) эйдетическому. «Подобное» – имеющее касательство к символической форме высшего, – резонансно «единому»; «неподобное» – «иному», что в аретологических сближениях получает трактовку: подобное – гармоничное (в чем влияние абсолютного сказывается изнутри созидания реалий), благое; неподобное – дисгармоничное, неправедное.
В креатологической плоскости человеческая богоподобность (сотворенность по «образу и подобию») привносит лейтмотив миметического: уподобленность одного другому удовлетворяется высотой, благообразностью целей, усилий миросозидания, соответственных, совершенному, символически каноническому (царству эйдосов – платонизм, эстетическим идеалам – эстетизм («прекрасное» классицизма)).
Резюмирование сути, зафиксированной в обозначенных трех моментах, отчленяет идею гомотетии, которая характеризует операции преобразования многообразий через постановку в соответствие некоторым сущностям их однопорядковых контрагентов (при строгих процедурах связываемых коэффициентом подобия). Стандартные преобразования подобия в математике обобщаются теорией аффинных преобразований, стандартные преобразования в деятельности по схемам «цель – средство – результат», «модель – воплощение», «замысел – претворение» обобщаются теорией родового призвания: в опоре на деятельность (становящейся планетарной силой) человечество творит сущее «по образу и подобию», – то есть целерационально, руководствуясь высшими, абсолютными символами ценного, идеального.
Сказанное прямиком ведет нас в сердцевину вопроса: сценическая сверхзадача неспекулятивной метафизики – искусство гомотетии.
Философ – не виртуоз, а законодатель человеческого разума. Будучи таковым, он вынужден осваивать искусство преобразований – уподобления сущего символически абсолютному. Философия вырастает из невозможности реальной жизни. Решая проблему «что есть мир», философ развертывает не натурфилософскую, а антропософскую сценографию человекоразмерного мира, в котором – без побочных умствований – можно жить «по-людски» (каждый эпохальный отрезок существования взыскует аутентичной тематизации сути последнего). Прекрасно об этом – у Фета:
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, – человечно.
Открывательная человекообразовательная функция отдает решительное предпочтение антропософии перед натурфилософией, задает исследовательский фронт «софии» как техники вычленения, «законченного ряда условий». Граница спекулятивного – неспекулятивного обозначается твердо и четко: по отношению к совокупному антропному процессу, рукотворению.
Традиционная метафизика точна, пока не ссылается на реалии; нетрадиционная метафизика точна, пока на реалии ссылается.
Consummatum est: смысл человечества выводим не извне, а изнутри его бытия – через фиксацию капитальных для него ценностей. К ним, как минимум, относятся продление существования и обретение совершенного существования. Тематизация предмета подводит к убеждению: нетрадиционная метафизика оказывается не только антропологичным, но и аксиологичным знанием; in puncto puncti, она является универсальной теорией ценностей жизни. Так как ценность человечна, лишь интенция на человеческую ценность делает жизнь ценной; ценность жизни – в воплощенности в ней фундаментальных социальных констант: гуманитарных символических абсолютов.
Читать дальше