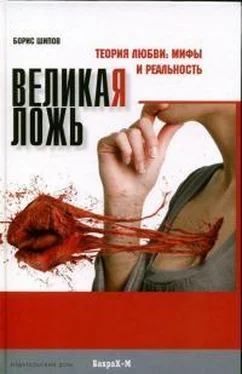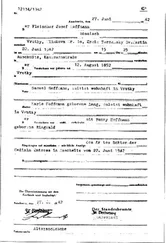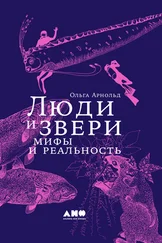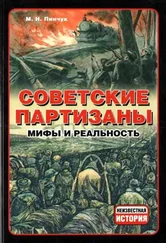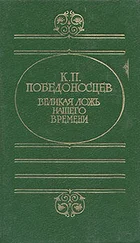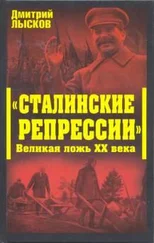Точно так же, читая книгу или глядя телесериал, мы сочувствуем влюбленным — за то, что они ведут себя в соответствии с правилами, которые мы все еще храним внутри себя. Точно так же мы изо всех сил стараемся удержать своих детей от любого секса, кроме законного супружеского, как бы сами ни увлекались амурными похождениями. По той же причине любая половая связь кроме той, которая оправдывается общественной моралью, в большей или меньшей степени нас тяготит.
Посмотрим теперь, как обстоит дело с ответом на вопрос, с которым автор этих строк постоянно приставал к другим теоретикам: почему же при родовом строе любви не было?
При родовом строе и мужчины, и женщины удовлетворяли свои половые инстинкты с кем попало, не испытывая ни малейшего чувства вины или греха, а потому стремиться к одному-единственному лицу у них не было никакой необходимости.
Половое влечение в любви
Каждому, кто пытается вывести любовь из половой потребности, непременно возразят с указанием на художественную литературу: «Почему же тогда существует чистая любовь, при которой влюбленные не испытывают желания улечься в постель? И что в таком случае привязывает друг к другу пожилых супругов — тоже сексуальные страсти?»
На второй вопрос ответить несложно. На него, собственно, давно ответили. Любовь добрачная и любовь немолодых супругов — это совершенно различные виды привязанности, роднит которые — по недоразумению — только название. Первый вид любви возникает на базе неудовлетворенной половой страсти, в основе второго — привычка и сознание взаимных обязанностей.
Бывает, что страсть, которой пылали жених и невеста, понемногу затихает и переходит в супружескую привязанность. Чаще случается обратное: она превращается в равнодушие и даже отвращение друг к другу. Бывает и так, что у супругов, которых поженили родители, первоначальное равнодушие и неприязнь со временем перерождаются в спокойную супружескую любовь, но только, конечно, без испепеляющих страстей.
Теперь возвращаемся к первому вопросу. Ответ на него: в половой любви половое влечение присутствует всегда, да только далеко не всегда оно осознается. Вообще истинные причины собственных поступков, стремлений, влечений, чувств, симпатий и антипатий от сознания человека практически всегда скрыты. Все, что человек сам о себе думает, заведомо не имеет ни малейшего отношения к истине.
Обычно это укладывается в голове лишь с великим трудом: как это — я да не знаю про самого себя, почему я что-то люблю, а что-то ненавижу? почему стремлюсь туда, а не в другом направлении? почему поступаю так, а не иначе? Да и кто же это может знать, как не я сам?!
И, тем не менее, о самом себе человек этого никогда не знает. Нет, принципиального запрета не существует. Человек может правильно понимать и собственную психику тоже, но лишь в тех пределах, в каких он понимает другого. Здесь есть некоторая аналогия с физиологией. Человек может верно представлять себе, как у него происходит кровообращение или пищеварение — когда он распространяет на себя известное ему из курса анатомии. Но если бы он попытался понять то же самое, лишь прислушиваясь к собственным внутренним ощущениям, он либо вообще ничего не понял бы, либо родил бы совершенно фантастическую гипотезу.
С психикой то же самое. Как ни вслушивайся в свои внутренние психические процессы, ровным счетом ничего в них не поймешь. Собственно, именно этим — самонаблюдением, самоанализом — и занимались на протяжении более чем двух тысячелетий, еще с античных времен, очень неглупые головы. И что же? Результат практически равен нулю. Кое-что о человеческой психике начали понимать лишь в XIX-XX веках, когда психическое стали выводить из деятельности, а не из созерцания, и когда открыли подсознание.
Каждый, кто вздумает покопаться в собственных психических процессах, немедленно натыкается на бессознательное, после чего заведомо не в состоянии двигаться в правильном направлении. У профессиональных психоаналитиков принято: если кто-то из них заподозрил неладное у себя в голове, он даже не пытается анализировать сам себя, а идет к коллеге и платит ему за каждый сеанс.
Тот, кто не изучал всерьез психологии, склонен придавать разуму в действиях людей слишком большое значение. Считается, что мы сначала размышляем, оцениваем последствия своих поступков, а затем выбираем наиболее целесообразную линию поведения. Немного не так. Мы почти всегда совершаем поступок под действием неосознаваемых нами импульсов, а разум свой используем для того, чтобы подтащить за уши объяснение совершаемому.
Читать дальше