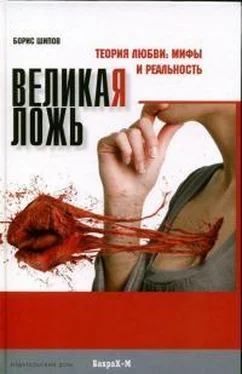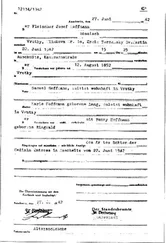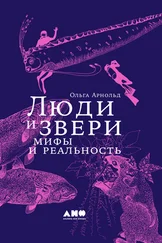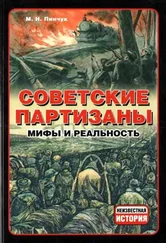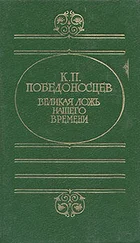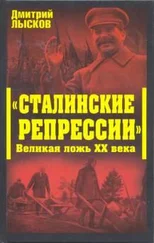Но ведь совершенно ясно, что на самом деле так высоко вы цените вовсе не его индивидуальность. Окажись на его месте любой другой, с другими чертами характера, с другой внешностью, другого возраста, другого ума, вы точно так же любили бы и его. По существу, вы любите в своем дядюшке исполнение ваших желаний, удовлетворение ваших потребностей, которое он предоставляет вам вместе с деньгами. Очень важная деталь, которую я не раз подчеркивал: удовлетворение желаний, не отравленное унижением или стыдом. Любовь, хоть половая, хоть родственная, возникает только при таком условии.
Влюбленной девушке кажется, что она любит мужчину за его личные достоинства. На самом деле его ценность для нее в другом: это объект, на который можно направить свои сексуальные страсти, не ощущая внутреннего сопротивления. Как и в предыдущем примере, ее восхищение и восторг — это своеобразная благодарность за возможность исполнения своих желаний. Потому до сих пор и не удалось установить, какие же качества порождают любовь — ничего они не порождают.
Эти же самые мысли высказывал еще в середине XIX века русский ученый И.М. Сеченов. В книге «Рефлексы головного мозга», принесшей ему мировую известность, он писал: «Любя женщину, человек любит в ней, собственно говоря, свои наслаждения; но, объективируя их, он считает все причины своего наслаждения находящимися в этой женщине…» {241}.
Прекрасная, очень точная формулировка: «объективируя свои наслаждения»! Как физиолог, Сеченов был менее связан философско-поэтическими догмами, назначение и смысл которых — запутывание вопроса о сущности любви. А потому в объяснении страстей — в том числе любовных — он прекрасно обходится и без бога, и без «токов, смыкающих между собой разомкнутые души», и без внешней силы опять-таки духовно-божественного происхождения, подчиняющей себе человеческий организм. Ему вполне достаточно потребностей и рефлексов: «… заканчиваю историю развития страстей. Из разобранных примеров читатель легко мог убедиться, что и этого рода явления в сущности суть рефлексы, только осложненные примесью страстных элементов…» {242}.
Вновь хочу отметить, что в предлагаемую здесь теорию происхождения любви мысли и формулировки великого физиолога укладываются наилучшим образом. В то же время нет ни малейшей возможности пристроить их к другим теориям: ни к «культурной», ни к «триангулярной», ни к «трем влечениям».
Горечь греха
Одинокая женщина, играя с чужим ребенком, испытывает удовольствие. Но ее удовольствие бесконечно далеко от того счастья, которое испытывает делая то же самое, мать, неважно, родная или неродная. Причина в том, что чувства матери, в отличие от посторонней тети, ничем не тормозятся.
Для человека XIX века половая связь со случайным партнером не приносит полного удовлетворения из-за моральных запретов, из-за ощущения греховности, если угодно. Когда партнер выбран на долгие годы, моральные запреты снимаются. Счастье новобрачных (первые несколько месяцев) — это наслаждение от утоления сексуального голода, не омрачаемое чувством вины.
Сознание вины или стыда, вызываемое нарушением моральных запретов, способно подавить любое самое естественное наслаждение. Пример. Голодный человек ест. Он должен испытывать чувство наслаждения от удовлетворения своей естественнейшей потребности. Но, предположим, ему швырнули кусок хлеба со словами: жри, подавись, собака! Человек ест, а удовольствия ни малейшего: кусок в горло не лезет. Если унижение было не очень сильным, человек поест, может, и не без удовольствия, но горький осадок останется. Тот, кто сытно живет на подачки, всегда будет мечтать о своем, законном куске хлеба, от которого он может получить чистое удовольствие, не приправленное сознанием унижения.
С утолением сексуального голода все то же самое. Осознание греховности того, что мы делаем, отравляет получаемое нами удовольствие. В моменты ухаживания, затем — объятий, тем более при приближении оргазма о грехах мы, понятно, не думаем, но все равно это в нас сидит. Нравственные принципы, которые заложены в нас с детства, очень живучи, и полностью отделаться от них почти невозможно. Пример. В детстве нас учили говорить только правду, быть верным своему слову. Став взрослыми, мы врем по многу раз в день, тем не менее, сколько бы мы ни врали, усвоенные с юных лет и вроде бы забытые принципы живут в нас и постоянно о себе напоминают. Мы смотрим кино: кому мы сочувствуем, с кем себя отождествляем? С тем, кто несмотря ни на что, верен своему слову. Привыкши врать и находя для себя кучу оправданий, своих детей мы стараемся воспитывать в духе честности и искренне огорчаемся, столкнувшись с их ложью.
Читать дальше