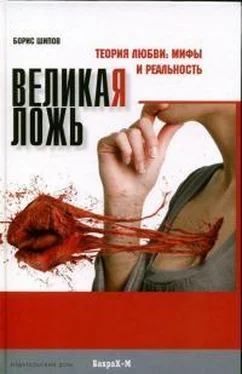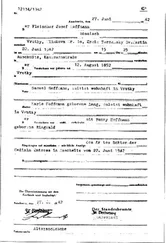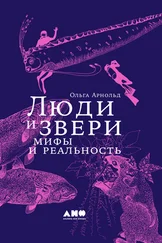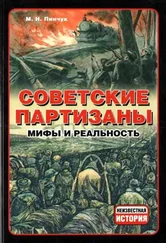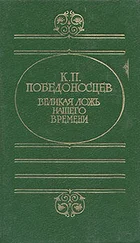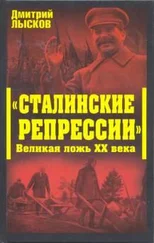Рюриков так ухитряется изложить самые простые вещи, что очевидный и опять же единственно возможный подход превращается у него в таинственную и сложную методологию, додуматься до которой — большое достижение.
Теперь, после того, как торжественно провозгласили — и запутали — некоторые азбучные истины, следовало бы перейти к главному: объяснить, как именно любовь-отношение зависит от среды, общества, а любовь-чувство — от человека, его исторического типа, склада его психологии и биологии. Или, в переводе на обычный язык, каким пользуются в общественных науках, объяснить происхождение и развитие любовных отношений, которые, как признает сам Рюриков, существовали не всегда, показать их зависимость от среды, рассмотреть формы их отражения в индивидуальном сознании, связать их с чертами характера, с положением человека в обществе, с его системой взглядов и т.п.
«Любовь — явление не социальное, а социально-биологическое и социально-историческое, — начинает демонстрировать действие своей двуединой призмы Рюриков. — Поэтому она зависит от общественно-исторической почвы по-особому — через психологию человека (которая, конечно, имеет социально-исторический характер). Любовь — как чувство — это общечеловеческое родовое чувство. В своем внутреннем измерении, психологии, она не имеет классового характера, а имеет характер социально-исторический. Классовый характер — у “внешнего” измерения любви, у любви-отношения: у нравов и обычаев любви, у ее жизненных форм, у житейских отношений людей. Только через них — опосредствованно — идут классовые влияния на само чувство любви, да и то не на психологическую материю этого чувства (тут они идут через человека), а на его протекание, его судьбы. Это, видимо, и есть диалектико-материалистическая призма, через которую в истинном свете видны социальные корни любви» {201}.
Любовь — «явление социально-биологическое и социально-историческое»; психология человека «конечно, имеет социально-исторический характер». Логично бы заключить отсюда: любовь, в конечном счете, порождается социальными причинами. Ан нет: «любовь — явление не социальное». Понять такое непросто, если вообще возможно. Кстати, о какой именно любви идет речь? Если о любви-отношении, получается нечто несообразное: сначала нам сообщают, что она «прямо зависит, во-первых, от среды, общества», затем — что она явление не социальное, что она зависит от общественно-исторической почвы по-особому, через психологию и, наконец, что она имеет классовый характер.
Если же в первой фразе говорится о любви-чувстве, получается еще хуже: сначала мы узнаем, что любовь-чувство зависит от исторического типа человека, его психологии, которая имеет социально-исторический характер, затем — что это явление хоть и биологическое и психологическое, но все-таки социальное, и в завершение — что «Любовь — как чувство — это общечеловеческое родовое чувство». Нет уж, что-нибудь одно: либо социальное, зависящее от исторического типа, либо общечеловеческое родовое.
«Что такое общечеловеческие родовые свойства людей? — вопрошает Рюриков и сам отвечает. — Наверное, не только любовь, не только гуманизм, не только тяга к творчеству, к свободе, к красоте, к дружбе, к общению с другими людьми. Наверное, это и стремление к универсальности, к полноте жизни, к многостороннему и цельному союзу с другими людьми» {202}.
«Теперешний человек — существо как бы “видовое”, не родовое, ибо человечество далеко не стало единым родом; оно разделено на “виды” — нации, классы, социальные группы, отряды, которые занимаются только физическим или только умственным трудом, только производством или только управлением. В этих условиях в людях больше развиваются “видовые”, чем родовые свойства, сильнее звучат классовые, национальные, профессиональные, чем общечеловеческие качества. Но истинная, идеальная сущность человека — в его родовой, а не “видовой” принадлежности, в том, что он представитель всего человечества» {203}.
«”Чисто” родовым существом — причем первобытно родовым — человек был, наверное, недолго: на заре родового строя, до того, как его жизнью стало править жесткое разделение труда. Потом человек стал сплавом родовых и видовых свойств. Родовое часто жило в нем в видовой форме, выступало в видовом проявлении. Но, пожалуй, не реже видовое было слабо насыщено родовым и даже противостояло ему» {204}.
«Чисто» родовое существо — это возврат к давно забытому философией абстрактному «человеку в естественном состоянии». Но подробный разбор этих взглядов занял бы слишком много места. Важно другое: обращаясь к «родовым свойствам», Рюриков не замечает, что он противоречит сам себе, и не один раз к тому же.
Читать дальше