– Как вы оцениваете перспективы движения антиглоблистов? Удастся ли им найти какую-то общую платформу?
– Антиглобализм – это уже прошлое. Это направление было необходимо для того, чтобы придать левому движению новый импульс после морально-политической катастрофы 1989–1991 годов. Тогда было понятно, что ни в какой иной форме левые идеи восприниматься обществом в западных странах не будут. Марксистская критика капитализма была соединена с пафосом экологической борьбы, с идеями политкорректности и анархистскими формами самоорганизации. Во всем этом было очень много позитивного, ведь старые формы левых организаций и их идеология действительно исчерпали себя. Но антиглобалистские организации не хотели заниматься политикой, не готовы были к борьбе за власть (вспоминается название нелепейшей книги Джона Холлоуэя «Изменить мир, не беря власть»). Насколько бесперспективны были подобные стратегии, стало ясно с началом мирового кризиса, когда вопрос о власти и о принятии конкретных решений вышел на первый план – в том числе и из-за глубочайшего кризиса институтов политической власти во многих странах. Антиглобалисты прекрасно находили между собой общий язык, и у них была общая программа в виде декларации Всемирного социального форума (ВСФ). Вопрос лишь в том, что эта программа уже устарела и не дает никаких ориентиров сегодня. Последний Европейский социальный форум был в 2010 году в Стамбуле и закончился феерическим провалом из-за отсутствия участников. А ВСФ превратился в форму экзотического туризма для руководителей богатых неправительственных организаций Запада.
– Сможет ли человечество справиться с ростом потребления энергоресурсов, продовольствия, воды и леса в связи с ростом населения?
– Проблема нехватки ресурсов обсуждалась мыслителями уже в Древней Греции. Никакого объективного ограничителя тут нет, по крайней мере на данном этапе. Демографические прогнозы тоже ничего страшного нам не сулят. Развивающиеся страны проходят ту же траекторию, что и Европа за сто лет до них. В Китае, как я говорил, сокращение населения начнется в 2020 году, в Индии около 2050 года, в Африке тоже рост замедляется. Урбанизация, даже в тех уродливых формах, которые она принимает на периферии современного капиталистического мира, ведет к снижению рождаемости.
Это, однако, не аргумент против экологической ответственности. Тут как в дискуссии об изменении климата. Одни приводят аргументы за эту теорию, другие ее критикуют. Я принадлежу к числу тех, кто принимает ее, хоть и с серьезными оговорками. Но дело-то не в этом. Даже если теории экологов о деятельности людей как главном факторе изменения климата совершенно неверны, значит ли это, что дышать отравленным воздухом лучше, чем чистым? Значит ли это, что, отравляя реки и водоемы, мы улучшаем собственное положение? Значит ли это, что продукты с пестицидами полезнее для здоровья, чем те, где не содержится химической отравы? По-моему, ответ ясен. Вопрос об экологии – это не вопрос о количестве доступных нам ресурсов, а вопрос о нашем качестве жизни. Что же касается ресурсов, то проблема не в количественном ограничении, а в методах их использования. Если методы работы с ресурсами – расточительные и неэффективные, что характерно для современно капитализма, то никакого количества ресурсов хватать не будет. Если бы их было в десять раз больше, то хозяйствовали бы в десять раз расточительнее, и проблема исчерпания ресурсов возникла бы быстрее. Есть необходимость рационального использования ресурсов в интересах общества, что означает неминуемое ограничение потребления. Просто потому, что современная модель потребления нерациональна. Она избыточна и мало связана с реальными потребностями (она даже не позволяет людям, индивидуально или коллективно, внятно сформулировать свои потребности). Мы берем на рынке не то, что нам действительно нужно, а покупаем то, что необходимо для продолжения работы этого рынка. Спрос давно уже не определяет предложение, а потребности – спрос. Новое, посткризисное общество будет в гораздо большей мере, чем нынешнее, обществом коллективного потребления.
Разумеется, назревает и вопрос об энергетической революции. На подходе самые разные технологии, из которых наиболее интересной и перспективной мне кажется использование атмосферного электричества. Никола Тесла с его, казалось бы, безумными идеями не случайно сейчас снова в моде. Но технологические переломы обычно тесно связаны с экономическими кризисами. Так, дизель и электричество заменили пар после кризиса начала XX века, а массовая индустриальная сборка («фордизм») торжествует после Великой депрессии. Кризис 1990-х дал нам Интернет. Так что нет причин бояться кризиса. Скорее надо радоваться ему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
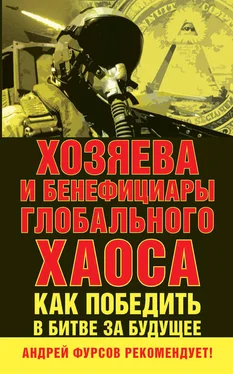

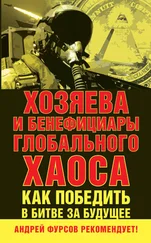

![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/414278/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo-thumb.webp)



