Россию из региональной державы в одного из гарантов европейского равновесия. Восстание декабристов можно рассматривать в этом ключе (вообще показательно, что в 1820-е годы в разных частях Европы поднимается новая волна революционных выступлений, но они оказываются недостаточно мощными, чтобы подорвать господство консервативных сил). Нет смысла конструировать версии альтернативной истории, но мне кажется, что в тот момент была возможность использовать политический рычаг для экономического преобразования, которое резко изменило бы роль России в мире. Но шанс был упущен. А когда Николай I во время Крымской войны выступил против логики миросистемы, шансов у него уже не было.
Потребовались революция 1917 года и сталинская индустриализация, сопровождавшаяся хорошо известными издержками и жертвами, чтобы вырваться из зависимости, превратиться из периферийной страны в альтернативный мировой центр. Но Советский Союз надорвался в этой борьбе – отчасти потому, что бюрократическая система не допустила в 1960-е годы проведения назревших экономических и политических реформ. С 1970-х начинается наше возвращение на периферию. И эта тенденция лишь усилилась после крушения СССР. Сегодня мы не просто превратились в поставщика сырья, но и оказались полностью зависимы в своем развитии от тенденций мирового рынка, почти не имея возможности на них влиять или тем более формировать их. Теоретически нынешний кризис дает шанс переломить ситуацию, но лишь за счет радикальных изменений нашего собственного общества. Существует ложное мнение, будто зависимость – это внешняя проблема. На самом деле это всегда проблема внутренняя, потому что периферийное развитие создает определенную структуру общества и экономики, определенный тип элит и господствующие интересы. Потому-то преодоление зависимости так трудно и так мало зависит от инициативы правительства или от внешнеполитической конъюнктуры. Нужен слом именно внутренних порядков и правил, чтобы воспользоваться внешними возможностями.
Перспективы России
– Сможет ли Россия использовать свой шанс и стать крупным транзитером товаропотока между Европой и Азией (по Северному морскому пути или по суше)?
– Относительно Северного морского пути еще ничего не ясно. И глобальные климатические перемены вряд ли сулят нам что-то хорошее. Что же касается сухопутного транзита, то здесь уже сейчас есть большие возможности. Но использовать их можно лишь в том случае, если начнется обновление инфраструктуры в таких масштабах, которые радикально изменят всю нашу экономику (как массовое дорожное строительство при Рузвельте изменило американское общество). Это вопрос, не сводимый к экономике и тем более – к инвестициям. Если пытаться привлечь инвестиции чисто рыночными методами, их просто никогда не будет хватать. Единственная возможность – создание мобилизационного механизма, ядром которого становится государственный сектор, действующий нерыночными методами. И в итоге должен быть построен не просто механизм, концентрирующий ресурсы для инфраструктурных проектов, а запущен процесс реиндустриализации и социального развития регионов, когда одновременно производится оборудование, транспортные средства, разрабатываются технологии, возникают новые локальные центры, проводятся научные исследования и так далее.
– Есть ли у нашей страны шанс стать крупным производителем высокотехнологичной продукции?
– Вопрос не в высоких технологиях, а в том, что именно мы хотим разрабатывать. Типичное периферийное мышление элит проявляется в том, что их воображения хватает лишь на то, чтобы имитировать чужие успехи. Это бессмысленно. Не нужно разрабатывать продукты и товары, которые уже есть на рынке. Нужно придумывать и производить то, чего на рынке еще нет. Или, наоборот, то, что никому не нужно, кроме нас. Если мы свои собственные потребности успешно удовлетворим, то будьте уверены, это будет востребовано и в других местах. Вы думаете, ребята, которые первый персональный компьютер в калифорнийском гараже собирали, думали о том, что это будет востребовано в России или Китае? Нет, они пытались сделать такую интересную штуку, которую купят конкретные покупатели в радиусе максимум нескольких сотен миль.
Надо ставить очень конкретные задачи, связанные с массированным обновлением нашей транспортной инфраструктуры и нашей энергетики. Вот два направления, которые потянут за собой остальную промышленность. И надо не покупать оборудование и технологии за границей, а производить самим. Не ради патриотизма, а потому что именно таким способом мы можем мобилизовать внерыночные факторы в условиях огромных, беспрецедентных масштабов работы, на которую денег просто не будет хватать. Тут-то и встает вопрос о мобилизации имеющегося потенциала. Покупать всё на внешнем рынке дорого. А нужно получать максимальную отдачу при минимальных денежных вложениях. Потому что стимулы могут быть не только денежные. У Сталина были шарашки, где работали под замком. И не только за страх, но и за совесть, за интерес. Сейчас, к счастью, сажать ученых под замок нельзя, но обеспечить им нематериальные стимулы можно. Таким стимулом может быть самоуправление и самоорганизация профессиональных сообществ, предоставление им реального политического влияния. У нас в Институте глобализации и социальных движений появилась идея отраслевых конгрессов, которые позволили бы организоваться подобным сообществам, почувствовать себя своего рода силой. И тогда ресурсы найдутся. Люди сами сделают бесплатно то, на что нет денег. Потому что, я всё время повторяю, вы можете вложить миллионы долларов в решение проблемы, но ничего не получить. А потом какой-нибудь гений сделает открытие совершенно бесплатно. Хотя деньги всё равно нужны. Они должны вкладываться в работающие структуры, чтобы поддерживать их деятельность. Сейчас очень важно не потерять остатки нашей науки и образования, а они уже всё сами сделают. Людей можно, кстати, привлекать и из-за границы. Создатели «Сколково» уверены, будто ученых можно приманить большими деньгами. Какой бред! Людей такого рода привлекает интересная работа, возможность сделать что-то на благо общества, человечества. В СССР в 1920-е и в начале 1930-х приезжали из Европы и Америки не за большими деньгами, а за большими идеями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
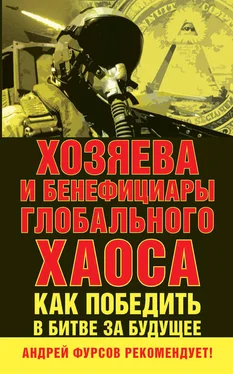

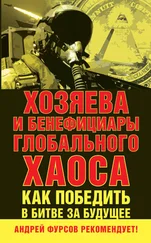

![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/414278/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo-thumb.webp)



