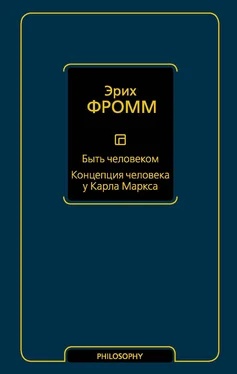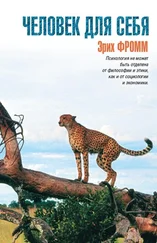Решающим вопросом сегодня мне представляется следующий: был ли прав Достоевский со своей альтернативой? Может быть, существует «религиозное» отношение или законный и аутентичный образ жизни, несмотря на то, что он не включает концепции Бога? Суждено ли нашей культуре дойти до точки, в которой человек мертв, после того как стал мертв Бог? Должны ли мы примириться с жизнью, полной алчности и собственнических чувств, и тем самым потерять свою душу, потому что не можем освободиться от концепции Короля-Бога, наложившей свою печать на наше концептуальное мышление около 3000 лет назад? Есть ли будущее у нового «атеизма», глубоко религиозного и противостоящего теистическому идолопоклонству, доминирующему сейчас?
Несомненно, существует стремление к новому виду «атеистической религиозности». Подобное стремление можно наблюдать среди молодежи во многих западных странах, что проявляется в таких феноменах, как движение хиппи, интерес к йоге, дзен-буддизму и других. Однако многое из этого оказалось на обочине или стало эксплуатироваться индивидами или группами, заинтересованными в общественном внимании. Самые глубокие идеи – от дельфийского «Познай себя» до фрейдовского психоанализа – были проституированы поддельными гуру и не менее поддельными пророками удовольствий и секса; ничто не осталось не оскверненным ядом современного поиска признания и коммерциализации.
В результате многие отчаялись и стали обращаться к старым богам, потому что новые оказались ложными. Очевидно, впрочем, что этот метод просвещения за несколько поспешных уроков с применением наркотиков, воскресных занятий, попыток установления притворной близости должен был провалиться, потому что ничто серьезное не может быть совершено без напряженных усилий, терпения и честности. Однако нет причин разочаровываться, обнаружив, что ложные пути не ведут к желанной цели.
Карл Маркс шел по пути Экхарта и Спинозы, целью его атеистического радикального гуманизма было спасение человека, его самоактуализация, преодоление алчности, стремления к обладанию и потреблению, достижение свободы и независимости, любви к другим людям.
Гуманизм как светское мессианство
Самое важное обобщающее утверждение, которое можно сделать, это что радикальный гуманизм Маркса был системой, направленной на спасение человека, – принцип, общий с буддизмом, иудаизмом и христианством. Термин «спасение» монополизирован европейскими религиями и, казалось бы, предполагает ссылку на Бога, который сам является Спасителем или посылает его. Буддистское спасение лишено такой коннотации. Буддизм учит, что человек должен спасти себя сам, в этом ему поддержкой служит только мудрость Будды – учителя, а не спасителя.
Чтобы предохранить концепцию спасения от теистической окраски, полезно помнить о буквальном значении слова. Английское salvation, как и французское salut и испанское salud, происходит от латинского salvare, корнем которого является sal – соль. Соль использовалась для предохранения мяса от разложения. В буквальном значении соль «спасала» мясо. В приложении к человеку, таким образом, спасение означает, что он спасен от разложения и, будучи спасенным, остается здоровым (salut). Другое дело, кем и от чего человек спасен. Буддизм говорит, что от страданий, неизбежного следствия всякой алчности. Христианство учит, что человек спасается от «первородного греха». Иудаизм призывает к спасению от последствий неправедной жизни и особенно идолопоклонства; Маркс учил, что человека нужно спасать от отчуждения, от потери себя.
В этом пункте философия Маркса сущностно отходит от греческого мышления; философ Николаус Лобковиц [93] Николаус Лобковиц (1931–2019) – видный католический мыслитель, философ . – Примеч. пер.
, противник системы Маркса, указывает на это фундаментальное различие очень четко: «Аристотель философствует, исходя из “чудес”, из интеллектуального любопытства, которое наполовину благоговение, наполовину желание приспособить человеческое существование к мировому порядку, космосу. Гегель и Маркс, напротив, философствуют, исходя из несчастья и неудовлетворенности, из “ощущения”, что мир не таков, каким должен быть. Соответственно, если целью Аристотеля в первую очередь является понимание, обнаружение структур и законов, к которым человеческое мышление и действия должны приспосабливаться, цель Гегеля и Маркса – “приведение в соответствие” и/или революция.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу