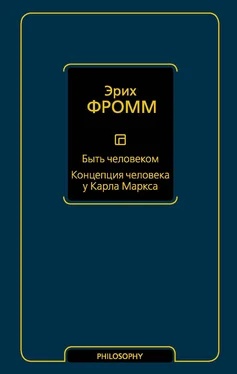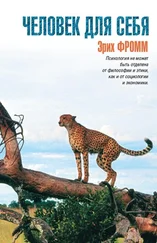Трудность с поиском подходящего слова для атеистической религиозности лежит, конечно, не в малочисленности правильных названий, а в историческом развитии европейской мысли. Христианские верования, получившие формулировку у схоластов и окончательную систематизацию в трудах Фомы Аквинского, содержали концепцию Бога, пытавшуюся примирить два разных источника: библейского, непосредственно воспринимаемого Бога и философского Бога Аристотеля – Бога мысли, «недвижимого двигателя». Существование библейского воспринимаемого Бога могло бы быть «доказано» в соответствии с Аристотелем философскими аргументами. Во времена, когда альтернативного объяснения чуду сотворения не могло быть предложено, когда существовавшая геоцентрическая система практически не подвергалась сомнениям, не существовало проблемы с идентификацией этих двух Богов. Напротив, какое более выдающееся свидетельство истинности учения Библии можно было найти, чем свидетельство величайшего из философов, Аристотеля? Впрочем, как раз в силу великих достижений Фомы Аквинского по части примирения между верой и разумом началось развитие, которое со временем могло стать опасным, если не фатальным, для религии. При переходе философской мысли от абстрактного и неэмпирического подхода (под этим я не подразумеваю, что можно игнорировать эмпирические научные аспекты философии Аристотеля) к конкретному, критическому и со временем научному мышлению, философский фундамент религии сделался шатким.
Фома Аквинский, как и другие схоластики, учил, что доказать существование Бога можно философскими аргументами. Что случилось с этими доказательствами, когда прогресс критической и научной мысли вместе с новыми открытиями предложил альтернативные объяснения чуду сотворения и «закономерности» природы? От Галилея до Дарвина миф об особом месте человека среди живых существ, коренившийся в вере в библейские традиции, все больше подрывался; наука предлагала альтернативные и все более убедительные объяснения. Поскольку схоластика давала опору религии в концепции возможности доказательства существования Бога, что могло бы произойти с религиозными переживаниями, когда эта мысленная концепция утратила обоснованность?
Четырнадцатое столетие ознаменовалось открытием нового модуса мышления. Новые формы мышления и другие важные социальные факторы вызвали ускорение изобретательства, что прямо вело к конкретному, критическому подходу, которому суждено было стать основой научного мышления и технического развития. (Льюис Мамфорд справедливо предостерегал против современного клише, согласно которому Средневековье было «статичным», а до Ренессанса отсутствовал технический прогресс.) Главенствующей фигурой в новом витке развития философии был [англичанин] Уильям Оккамский (Уильям Оккам), выдающийся философ XIV века.
Значение Оккама и как теолога, и как философа заключается в отвержении им метафизических заключений средневекового реализма, который учил, что понятный порядок абстрактных сущностей и необходимых отношений онтологически предшествовал более «реальным» конкретным предметам и возможным событиям; т. е. интеллект может показать первопричины существующего порядка и в конце концов существование Бога. Оккам, находившийся в радикальной оппозиции к этим взглядам, переработал философию на основе радикального эмпиризма, предполагавшего очевидным базисом всякого знания прямое наблюдение за отдельными предметами и конкретными явлениями. Вера Оккама в Бога не могла быть ни опровергнута, ни доказана философскими рассуждениями или наблюдениями. Благодаря радикальному отходу Оккама от схоластической метафизики упор в его теологии переместился с размышлений о Боге к непосредственным субъективным переживаниям. Более того, он освободил веру в Бога от опасности уничтожения научными прозрениями. Разум не мог бы ни доказать, ни опровергнуть существование Бога; основой веры могло быть только внутреннее переживание. Мнения о том, что мысленная концепция «Бог как верховный правитель» была обусловлена исторически и что, не будь Ближний Восток местом происхождения христианства, эта концепция не была бы избрана, были, конечно, чужды состоянию умов в XIV столетии. Когда внимание переместилось с мысленной концепции на опыт, первая потеряла свое значение.
Такое развитие было доведено до конечной точки Экхартом. Как мы видели, радикальная формулировка Экхартом «негативной теологии» привела к нетеологии. Бог-творец – активный Бог – утратил свое верховенство, и «Божественность», неизмеримо превосходившая Бога-творца, была не тем богом, о котором следовало думать, говорить и к которому следовало обращаться. Она была неподвижностью и молчанием, она была ничем. Единственным, что имело значение, был человек, процесс внутреннего освобождения, попытки человека стать совершенным. Экхарт, конечно, пользовался традиционными символами, но он дал им новое содержание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу