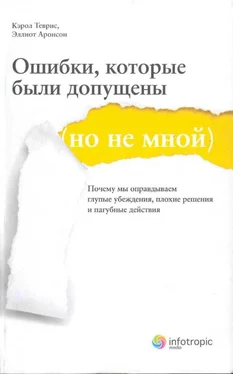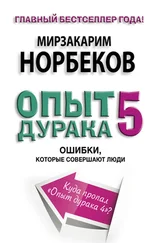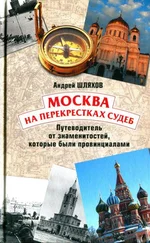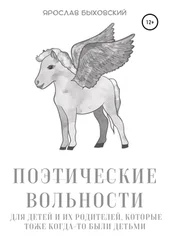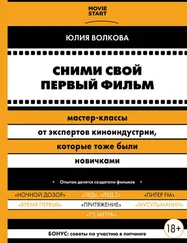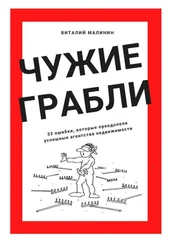Почему? Приступы паники — это нормальная реакция на стресс у тех, кто ему подвержен. Почти у каждого человека есть какие-то шишки или шрамы: действительно, у собственного сына Вилкомирски была шишка на затылке на том же самом месте, и это предполагает, что, возможно, дело в генетике. Ночные кошмары бывают у многих людей, и, как это ни удивительно, совсем не обязательно отражают какие-то реальные события. У многих переживших травмирующие ситуации взрослых и детей ночных кошмаров не бывает, но они бывают у многих из тех, кто такие ситуации не переживал.
Но Вилкомирски не был заинтересован в подобных объяснениях. В поисках смысла своей жизни, он начал спуск со своей пирамиды, решив, что найдет настоящую причину для симптомов, приобретенных им в первые четыре года жизни. Сначала он не помнил ни о каких ранних травмирующих событиях и чем больше он погружался в свои воспоминания, тем более ускользающими становились его ранние годы. Он начал читать о холокосте, в том числе воспоминания тех, кто его пережил и выжил. Он начал считать себя евреем, повесив на дверь мезузу (кусочек пергамента с отрывками из Торы), и стал носить звезду Давида. В возрасте 38 лет он познакомился с Элицуром Бернстайном — израильским психологом, живущем в Цюрихе, который стал его ближайшим другом и советником в его путешествии в прошлое.
Охотясь за своими воспоминаниями, Вилкомирски поехал в Май-Данек с группой друзей, включавшей Берстайнов. Когда они приехали, Вилкомирски заплакал: «Это был мой дом! Здесь был карантин для детей!». Группа посетила историков в архиве лагеря, но, когда Вилкомирски спросил их о карантине для детей, они посмеялись над ним. «Маленькие дети умирали или их убивали, — сказали они, — у нацистов не было для них никаких детских яслей в специальных бараках». Но к тому времени Вилкомирски уже зашел так далеко в поисках своей идентичности, что его не могли остановить доказательства его ошибки, так что его реакцией было ослабить диссонанс, утверждая, это историки ошибались: «Из-за них я выглядел глупцом. Это было очень мерзко с их стороны, — сказал он Мехлеру. — Начиная с этого момента, я знал, что скорее могу положиться на свою память, а не на го, что говорят так называемые историки, которые никогда не задумывались о детях в своих исследованиях» [93].
Следующим шагом Вилкомирски было обращение к психотерапевту, чтобы он помог ему избавиться от ночных кошмаров, страхов и приступов паники. Он нашел психотерапевта психодинамической школы Монику Матта, которая анализировала его сны и использовала невербальные техники, такие как рисунки и другие методы, позволявшие «лучше узнать о телесных эмоциях». Матта убедила его записывать воспоминания. Для людей, которые постоянно помнят о травмирующем или тайном опыте, действительно, может быть полезным их записывать: это часто помогает страдающим людям увидеть свой неприятный опыт в новом свете и начать избавляться от него [94]. Но для тех, кто пытается вспоминать нечто, чего никогда не происходило в реальности, записывать сны, анализировать их и рисовать, несмотря на то, что эти методы служат верой и правдой многим психоаналитикам, непродуктивно: это быстро приводит к тому, что конфабуляции, фантазии смешиваются с реальностью.
Элизабет Лофгус, ведущий ученый в сфере исследований памяти, называет этот процесс «инфляцией воображения», потому что, чем больше вы фантазируете о чем-то, тем более вероятно, что плоды вашего воображения будут смешиваться с вашими реальными воспоминаниями и становиться все более детальными [95]. (Ученые исследовали механизмы «инфляции воображения» на нейронном уровне с помощью МРТ — магнитно-резонансной томографии [96]). Например, Джулиана Мазони с коллегами просила участников эксперимента рассказать свой сон, а взамен предлагала им (фальшивый) персонализированный анализ этого сна. Половине участников они говорили, будто сон означает, что, когда им было три года, их обидел задира, или что они потерялись в людном месте и испугались, или что произошел какой-то другой сходный неприятный эпизод. В сравнении с теми, кто служил контрольной группой (им не предлагались такие интерпретации), многие из тех, кому они были предложены, начинали верить, что сон связан с реальными событиями из их прошлого, и примерно половина потом пересказывала детальные воспоминания об этом якобы произошедшем в их детстве событии. В другом эксперименте людей просили вспомнить о том, как школьная медсестра брала у них кусочек кожи с мизинца для общенационального медицинского исследования (в реальности такое исследование никогда не проводилось). Предложение просто представить эту несуществующую процедуру приводило к тому, что участники эксперимента начинали верить, будто с ними это действительно произошло. И чем более они становились уверенными в этом, тем больше конкретных деталей появлялось в их ложных воспоминаниях (например, «там был ужасный запах») [97]. Исследователи вызывали «инфляцию воображения» и косвенно: просто прося людей объяснить, как маловероятное событие могло с ними произойти. Когнитивный психолог Марианна Гэрри обнаружила, что, когда люди говорят вам о том, как событие могло бы произойти, они начинают ощущать его как реальное. Особенно внушаемы дети [98].
Читать дальше