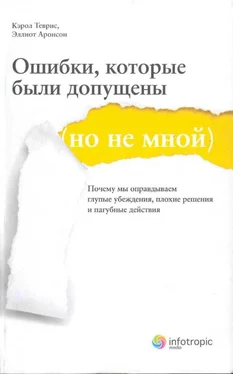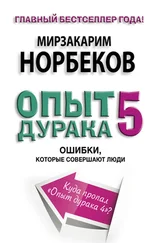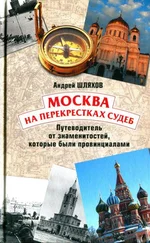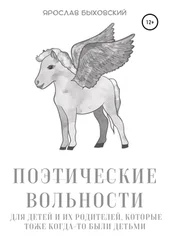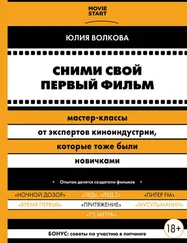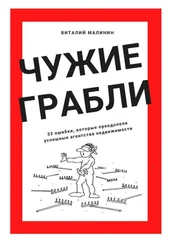В случае Ральфа Хейбера искажения воспоминаний помогли ему защитить его я-концепцию: он всегда хотел видеть себя независимым и решительным. Но я-концепция большинства людей подразумевает веру в изменения, улучшения и личностный рост. Некоторые из нас полагают, что нам следует полностью измениться, и мы представляем себя в прошлом совершенно другими людьми. Когда люди меняют религию, выживают в какой-то катастрофе, побеждают рак или избавляются от наркотической зависимости, они часто ощущает себя радикально изменившимися. Они говорят: В прошлом это «был не я». Людям, испытавшим такую трансформацию, память помогает разрешить противоречие между их прошлым «я» и настоящим «я», изменяя воспоминания. Когда люди вспоминают поступки, диссонирующие с их сегодняшними представлениями о себе, например, когда религиозных людей просят вспомнить то время, когда они не посещали религиозные службы, хотя теперь им представляется, что это следовало делать, или когда, напротив, люди, теперь неверующие, вспоминают, как они ходили в церковь, они видят эти ситуации в своих воспоминаниях с точки зрения постороннего, так, будто бы они — беспристрастные наблюдатели. Но, когда они вспоминают о поступках, консонантных их нынешней индивидуальности, они рассказывают историю от первого лица, воспринимая свое прежнее «я» своим собственным взором [86].
Но что случается, если мы думаем, что стали лучше, а на самом деле совсем не изменились? И опять память приходит на помощь. В одном эксперименте Майкл Конвей и Майкл Росс проводили для 106 студентов программу по улучшению учебных навыков, которая, как многие подобные программы, обещала больше, чем давала в реальности. Вначале студенты оценивали свои учебные навыки, а потом их в случайном порядке или допускали участвовать в обучающем курсе, или записывали в лист ожидания. Данная программа не оказывала абсолютно никакого влияния на их учебные навыки или экзаменационные оценки. Как же тогда студенты оправдывали потраченное время и усилия? Через три недели, когда их просили как можно точнее вспомнить их первоначальные оценки своих учебных навыков, они оценивали их значительно ниже, чем это было на самом деле: это позволяло им думать, будто после курса навыки улучшились, хотя они в реальности не изменились. Когда через три месяца их просили вспомнить свои оценки за этот курс, они также ошибались, сообщая, что они были выше, чем в реальности. А студенты, оставшиеся в листе ожидания, которые не потратили ни усилий, ни энергии, ни времени, когнитивного диссонанса не испытывали, и им не нужны были самооправдания. Им не было нужды искажать свои воспоминания, и они верно вспоминали оценки своих учебных навыков и недавно полученные оценки [87].
Конвей и Росс назвали эти «своекорыстные» искажения памяти «получением того, что хочется, с помощью пересмотра того, что у вас есть». В более длительные периоды жизненного цикла многие из нас делают следующее: мы занижаем наши качества и достижения, завышая оценку того, каких улучшений мы добились, и это помогает нам позитивнее оценивать себя в данный момент [88]. Конечно, мы все растем и взрослеем, но обычно в меньшей степени, чем нам представляется. Такие ошибки памяти помогают каждому из нас чувствовать, будто мы сами глубоко и существенно изменились, а наши друзья, враги и любимые люди остаются теми же старыми друзьями, врагами и любимыми, какими они были раньше. Мы общаемся с Гарри на встрече школьных друзей, и пока Гарри рассказывает, сколько он узнал и как он вырос после окончания школы, мы киваем, а про себя думаем: «Все тот же Гарри, только чуть растолстел и облысел».
Механизмы самооправдания памяти были бы просто еще одним интересным, хотя часто и раздражающим аспектом человеческой при роды, если бы не тот факт, что мы живем своей жизнью, принимаем решения, относящиеся к другим людям, формируем философию, которой руководствуемся, и сочиняем целые нарративы-повествования на основе воспоминаний, часто верных, но нередко и абсолютно ошибочных. Довольно неприятно уже то, что какие-то события происходили, а мы о них не помним, и страшно, что мы помним о том, чего в реальности не происходило. Многие наши ошибочные воспоминания неопасны, как воспоминания о том, кто нам читал книгу «The Wonderful О», но иногда они влекут за собой и более глубокие последствия не только для нас, но и для наших семей, наших друзей и для общества в целом.
Истинные истории о ложных воспоминаниях
В 1995 г. в Германии Биньямин Вилкомирски опубликовал книгу «Фрагменты» («Fragments») — мемуары о своем ужасном детстве в концентрационных лагерях Майданек и Биркенау. Его книга — воспоминания маленького ребенка о жестокостях нацистов, его освобождении и переезде в Швейцарию, была встречена восторженными похвалами. Рецензенты сравнивали ее с книгами Примо Леви и Анны Франк. Газета New York Times назвала книгу «поразительной», а газета Los Angeles Times охарактеризовала ее как «классическое свидетельство очевидца холокоста». В Соединенных Штатах «Фрагменты» получили в 1996 г. «Национальную премию за еврейские книги» в номинации «Автобиография и мемуары», а американская Ортопсихиатрическая Ассоциация присудила Вилкомирски свою награду имени Хаймана за исследования холокоста и геноцида. В Британии книга получила литературную награду имени Уингейта журнала Jewish Quarterly, во Франции ей присудили награду Prix Memoire de la Shoah, учрежденную Французским фондом иудаики. Мемориальный музей холокоста в Вашингтоне послал Вилкомирски в турне для сбора пожертвований по шести городам США.
Читать дальше