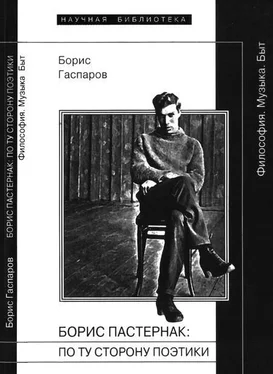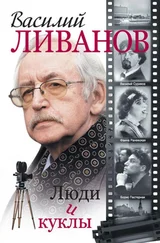Как видим, предметом заботы Пастернака является не столько искушение всемогуществом творческой воли, сколько, напротив, опасность совершенно потерять себя при соприкосновении с беспорядочно наплывающими впечатлениями. Соблазн последовать путем сверхчеловеческого — путем Скрябина, Андрея Белого, Маяковского — Пастернаку, по самому складу его личности, едва ли мог серьезно угрожать; безоглядность самоотдачи, с какой он заявлял о преклонении перед этими гигантами, сама по себе служила наилучшим залогом его внеположности их зачарованному кругу. Но склонность к саморастворению в хаотическом движении мира, неспособность и нежелание диктовать ему свою волю делала Пастернака уязвимым по отношению к тотальной неартикулированности, чьей оборотной стороной, которую как раз и обнажила философская критика, оказывается скептическая беззаботность. Логическая критика психологизма имела для Пастернака не отрицательное, а положительное значение. В ней он искал не защиту от того, что его духовному миру никогда и не грозило, а напротив, твердую опору, крайне необходимую как раз в силу его готовности без остатка раствориться в том, что его восприятию предлагает окружающий мир. Без этого интеллектуального якоря, надежно фиксирующего исходную позицию пастернаковского субъекта (и притом как бы поневоле, вопреки его инстинктивной склонности), он не решается предаться на волю волн движущихся образов.
Тут делается понятным, почему абстрактный универсализм Когена оказался для Пастернака важнее, чем антипсихологизм Гуссерля, несмотря на то, что именно Гуссерль блестяще сформулировал принцип «объективной субъективности» — субъективности без субъекта [48] «Объективное содержание науки совершенно независимо от субъективности ученого» (Husserl 1900–1901; I: Ch. 8, 42).
, близко сродственный с позицией поэтического субъекта Пастернака [49] Очень точно об этом сказано у Флейшмана 2006 [1975]: 351–356. Флейшман, однако, склонен считать, что доминантное место Марбурга в автобиографии Пастернака является «метонимическим» замещением, скрадывающим его более глубокую внутреннюю связь с феноменологией, с чем я не могу согласиться.
. Даже надличностный субъект Гуссерля оказывается для Пастернака слишком «активным», слишком целеустремленно направленным к предмету. Понимание «чистого знания» у Когена как имманентной системы, покоящейся на своих собственных априори заданных основаниях, искореняла всякий след интенциональности. Даже в знаменитом декартовском «Cogito ergo sum» Коген находил рецидив вредного психологизма — в ненужной связке sum, подразумевавшей «существование» познающего начала и тем самым подрывавшей абсолютную абстрактность чистой мысли, лишенную какой-либо экзистенциальности, — чистого «cogito» без «sum» [50] «Но тогда к чему это „sum“? <���…> Сознание чистого мышления науки оказалось перемешанным с личным чувством собственного индивидуального существования» (LJ II: 46–47).
.
Любопытным отголоском этой идеи представляется анекдотический эпизод на выпускном экзамене по древней философии в Московском университете, рассказанный Локсом. На вопрос о Тертуллиане Пастернак, маскируя поверхностное знание предмета, спешит процитировать хрестоматийное «Credo, quia absurdum»: «— est, — раздался скрипучий голос Соболевского, сидевшего рядом в качестве ассистента и не потерпевшего опущения связки» [51] Локс 1993: 43.
. Ответ Пастернака, так сказать, «по Когену» (без связки) сталкивается с верой школьной грамматики, что никакое утверждение невозможно без указания на «существование» утверждаемого, — верой поистине «абсурдной» перед лицом всем известного афоризма.
Желая подчеркнуть бестелесную абстрактность чистого разума, Пастернак говорит о его «воздушных построениях». Эта, казалось бы, вполне проходная метафора оказывалась на поверку важным философским тезисом. Она была откликом на «сравнение с голубем в безвоздушном пространстве» у Канта, не прошедшее незамеченным в конспектах Пастернака (LJ II: 15). Смысл сравнения состоял в том, что полет голубя был бы невозможен без опоры, которую ему дает воздух — притом что в «субъективном ощущении» голубя воздух может ему представляться помехой свободному полету [52] «Рассекая в свободном полете воздух и чувствуя его сопротивление, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать». Кант 1994 [1789]: 45.
. Кантовский образ был в свою очередь диалогическим откликом на Платона, сравнившего движение идей с полетом голубиной стаи [53] Ср. упоминание этого образа в письме к Н. В. Завадской 25.12.13 (СС 5: 78).
. Стремительная россыпь взлетающей голубиной стаи идей не могла бы совершиться без «воздушной» опоры чистой мысли, напоминает Кант.
Читать дальше