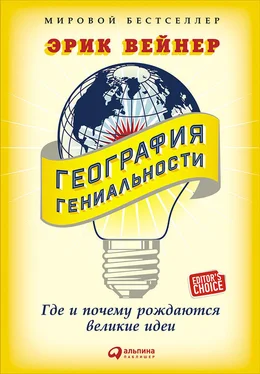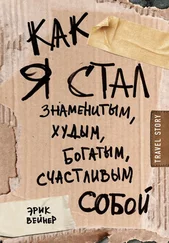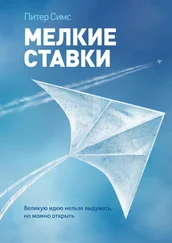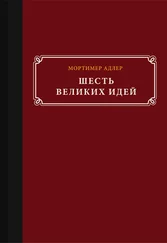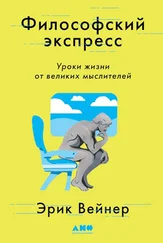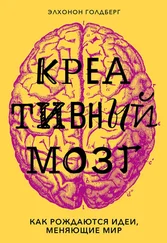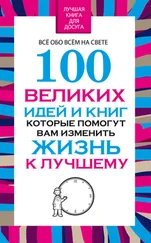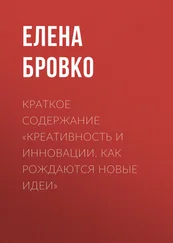Фримен заключает: хаотические состояния нужны мозгу, чтобы обработать новую информацию (в данном случае – новые запахи). «Без хаотического поведения нервная система не может добавить новый запах в свой репертуар изученных запахов», – пишет он.
Выводы Фримена имеют колоссальное значение. Получается, что хаос не мешает творчеству, а составляет важный его ингредиент. Наш мозг созидает не только порядок из хаоса, но и хаос из порядка. Творческий человек не воспринимает хаос с ужасом, а смотрит на него как на кладезь информации. Да, эта информация лишена для нас смысла. И все же потенциально она важна, поэтому пренебрегать ею не стоит.
Творческий человек сотрудничает с хаосом, но сотрудничество не есть капитуляция. Вечный хаос ничуть не полезнее для творчества, чем идеальный порядок. И все же, как отмечает бельгийский химик и нобелевский лауреат Илья Пригожин, где-то между ними есть волшебная и удивительная смычка: «Внутри нее существуют все возможности». Творческие люди постоянно пребывают в вечном танце на краю хаоса.
Судя по недавним исследованиям, это удивительно могущественный танец. Ученые провели эксперимент: предоставляли испытуемым фигуры самых разных форм – линии, круги, треугольники, кольца и т. д., – из которых те могли создать предметы с узнаваемой функцией (скажем, мебель, посуду или игрушки). Затем жюри оценивало степень креативности продуктов. Но одни испытуемые могли выбирать категорию предметов и/или исходные формы самостоятельно и целенаправленно, а другим экспериментаторы просто передавали готовый вариант, выбранный случайным образом.
Результаты оказались неожиданными и недвусмысленными. Самые креативные продукты были созданы в тех случаях, когда и категория предметов, и исходные формы представляли собой результат случайной генерации. Чем меньше оставалось выбора, тем ярче проявлялось творчество. Возможно, это удивит вас, поскольку в нашей культуре есть культ выбора (или иллюзия выбора?). Однако случайность – более мощный эликсир творчества. Почему? Опять-таки, объясняет Дин Симонтон, все дело в ограничениях. «Отталкиваясь от полностью неожиданного, испытуемые должны были изыскать максимум творческих возможностей», – заключает он. (Конечно, всему есть мера. Избыток случайных стимулов породит вместо гениальности невроз.)
Мы раскрываемся в «хаотической» и стимулирующей среде. Это верно не только в психологическом, но и в физиологическом плане. У крыс, выросших в обстановке, богатой стимулами, формируется больше кортикальных нейронов – мозговых клеток, которые обеспечивают мышление, восприятие и сознательное движение. Их мозг больше весит и содержит более высокие концентрации важных химических веществ в сравнении с крысами, которые не получили такой стимуляции. Наше тело и наш ум жаждут не просто стимулов, но комплексных и многообразных стимулов.
Видный кардиолог Ари Гольдбергер в свое время выяснил нечто неожиданное: здоровое сердцебиение отличается не регулярностью и ритмичностью, а нерегулярностью и хаотичностью. Он эмпирически доказал: скорую остановку сердца предвещает именно крайняя регулярность, а не нерегулярность. Еще один пример мы находим у эпилептиков. Раньше считалось, что эпилептические припадки возникают в результате хаотической деятельности мозга. На самом деле все наоборот: «Во время припадков ЭЭГ становится регулярной и периодической, тогда как нормальная ЭЭГ нерегулярна», – отмечает Алан Гарфинкель, профессор медицины из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
В Калькутте такой пестроты случайности было и остается вдоволь. Здесь нет ни двух одинаковых перекрестков, ни двух одинаковых дней. Когда молодой музыкант по имени Арка говорит мне, что в Калькутте ему нравится прежде всего то, что «хаос и безумие имеют свой ритм», он высказывает не только поэтическую, но и научную истину. Хаотической системе присущи границы и особая упорядоченность. Она не равнозначна анархии, то есть полному отсутствию цели и правил. Разница между хаосом и анархией подобна разнице между танцевальной группой и массовой дракой. В хаосе есть свой танец.
Неудивительно, что жители Калькутты вдохновляются хаосом и ищут его. Они открыто флиртуют со случайностью и совпадением и, без сомнения, от души согласятся со словами Эрика Юхана Стагнелиуса, шведского поэта XIX века: «Хаос – это сосед Бога».
Тагоры хорошо знали эту истину. Их суматошный дом напоминал центр художественного творчества, где регулярно ставились пьесы и проходили концерты. «Мы писали, мы пели, мы актерствовали, мы всячески проявляли себя», – вспоминал Тагор.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу