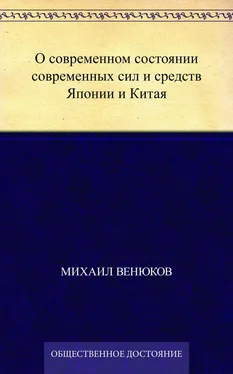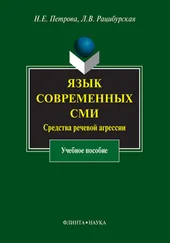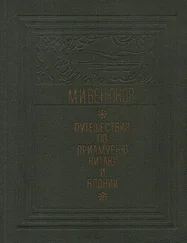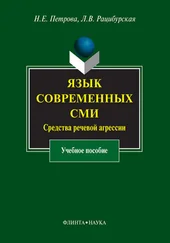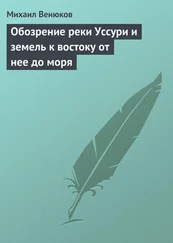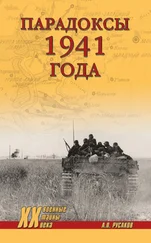От общих указаний на состояние юго-восточной Монголии и Халхи я мог бы теперь перейти к западу; но позвольте, мм. гг., прежде сказать несколько слов о Монголии вообще. Она простирается от верховьев Желтой реки до берегов Аргуня и от великой стены до южных предгорий Алтая. В этих пределах ее протяжение можно определить в 90,000 квадратных миль; но, несмотря на такую огромность страны, общее число монголов едва ли превосходит два миллиона душ. Это, следовательно, народ сильный не числом, а возможностью волноваться, грабить и уходить безнаказанно в свои пустыни. Конечно, с тех пор как Россия стала прочной ногой в Сибири, можно быть уверенным, что явления в роде чингизхановых нашествий стали невозможны; но за всем тем не только прочно покорить, но и держать в узде монголов трудно. Напрасно китайское правительство дает чины князьям, делает им подарки, чтобы вызывать их в Пекин, на поклоны к себе: оно само открыто сознается, что действительная его власть, например в Хухуноре или даже в Гоби, на севере от Желтой реки, почти ничтожна. И доверять китайской географии, которая дает подробности организации монголов под китайским владычеством, простирающейся, например, до того, что указано, сколько сотен откуда должно выходить на войну, могут только такие оптимисты, каким был наш почтенный синолог Иакинф, наслово веривший китайским официальным данным. Все, чем выражается действительное подданство монголов китайскому богдыхану, есть служба полицейская (в Урге, Кяхте и пр.) и караульная по границе с Россией; да и то она исполняется монголами лишь потому, что они находятся под надзором китайских местных властей, и потому что самая служба выгодна, давая возможность или брать взятки, или торговать с русскими.
Восточная, северная и средняя Монголия и Хухунор, составляющие большую часть этой страны, населены совершенно однородным племенем, монголами собственно; а если и есть небольшие исключения, в роде баргу-бурят и элютов близ берегов Аргуни и Хуан-хэ, то исключения ничтожны по своему числу. Не то придется сказать про западную часть великой средне-азиатской степи, подвластной Китаю. Тут хребты Небесный, Алатау, Тарбагатай, Алтай, Танну, избороздив почву во многих местах, послужили причиною довольно большого разнообразия и в этнографии страны, подобно тому, как это мы видим, например, на Кавказе, в Турции и т. п. Не менее трех основных рас живет в этих местностях: на севере, у верховий Енисея – финно-турецкая, в средине, от Алтая до Тянь-шаня – монгольская, калмыцкой ветви, и на юге, за Тянь-шанем и отчасти в отклонах его – турецкая, уйгурского колена. К этим туземцам «западного края» китайское правительство прибавило еще в течение XVIII и XIX столетий, многочисленных переселенцев из Срединного Царства и из Маньчжурии. Вся эта пестрота казалась в Пекине вернейшим средством к удержанию края во власти, к тому, чтобы в нем не было определенной господствующей национальности. Для вящего достижения цели, многие тысячи туземцев были уведены на восток, многие сотни тысяч умерщвлёны поголовно на месте. Но все было неудачно. Этнографическая пестрота получилась, а государственного единства с преобладанием китайского элемента нет. И также, по-прежнему, обитатели верховий Енисея – сойоты, урянхи, дархаты – остаются сойотами, урянхами и дархатами; также различные отрасли калмыцкого народа – дурботы, элюты, торгоуты и т. д. переносятся с своими шатрами вдоль степи, чуждаясь китайских оседлостей. Я не говорю уже про народы турецкой расы, оседлых малобухарцев, дунганей и кочевых киргизов: эти варвары всегда оставались в живой оппозиции Китаю уже потому, что они мусульмане, а китайцы язычники, и что пекинскому правительству не удалось ни наградами, ни ласками привлечь их вождей или же открытой войной и коварством их истребить в конец.
Коснемся сначала северной половины западного края. Она образует то, что в географиях принято называть Чжунгариею, и что в частности состоит: а) из Илийского края; b) из так называемой северной тянь-шанской линии, от Баркуля и Урумци до Чугучака, ныне разрушенного; с) из калмыцких земель по верхнему Иртышу; d) из калмыцких же гористых и частью лесистых земель по южно-алтайским отклонам, и е) наконец из земель полу-земледельческих, полу-охотничьих финских племен в бассейне верхнего Енисея. Весь этот обширный и разноплеменный край до последних событий управлялся китайцами из трех главных центров: Урумци, Кульджи и Улясутая, где были расположены китайские войска. Но владычество Китая было тут почти фиктивным, за исключением узких полос у подножия гор, где довольно хорошее орошение почвы давало возможность водворить ряд китайских земледельческих, торговых и военных колоний. Все туземное население едва-едва повиновалось китайским властям, часто предаваясь бунтам и грабежам. Особенно илийский бассейн, куда, однако, пекинское правительство переселяло и китайцев, и туркестанцев, и даже маньчжуров, всегда был центром инсурекционных движений. Эти движения повторились и теперь, когда восстание охватило весь запад Небесной Империи, и вероятно надолго, если не навсегда, отторгло от нее Чжунгарию. Восстание это родилось, к северу от Тянь-шаня, в начале 1860-х годов и ныне привело частью к образованию мелких ханств, как в Кульдже, частью к анархии, царствующей в степи на север и восток отсюда. Знамя инсурекции было поднято мусульманами, и жертвами ее стали не только китайские правительственные лица и войска, но так-же земледельческие и правительственные выходцы из Срединного Царства. Около 14,000 последних бежали в наши пределы; другие были истреблены. От поселений маньчжуров, солонов и сибо почти ничего не осталось. Города Урумця, Кульджа, Чугучак и др., лежащие среди взволнованного края и имевшие китайские гарнизоны в особенно устроенных крепостях, были взяты 30-го октября 1870 года; ту же участь испытал Уля-сутай, главный город северной Монголии, а теперь дунгане грозят Урге.
Читать дальше