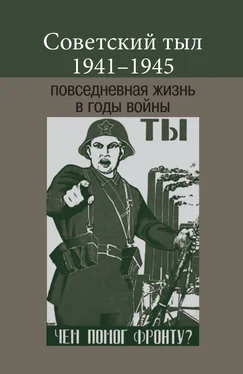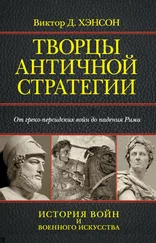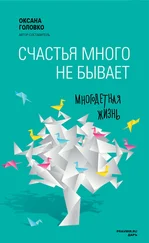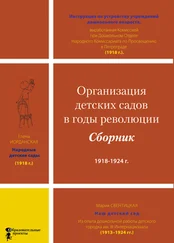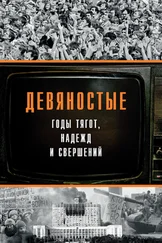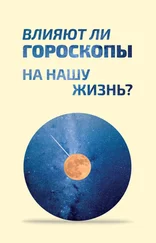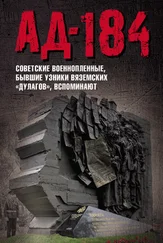. Советский тыл был преимущественно женским, причем в большей степени, чем в любом другом воюющем государстве. К 1944 г. 4,3 млн женщин работали на промышленных предприятиях. Их доля составляла 53 % всей промышленной рабочей силы. Правда, в тяжелой индустрии мужчины все же преобладали
[6] Barber J., Harrison M. The Soviet Home Front, 1941-45: a social and economic history of the USSR in World War II. London; New York: Longman, 1991. Tables 4, 5. P. 216.
. К 1944 г. в колхозах работало 13 млн женщин, что равнялось 78 % – это чрезвычайно высокий показатель – их совокупной рабочей силы. А ведь советское общество все еще на две трети оставалось сельским, крестьянским
[7] Анисков В. Т. Крестьянство против фашизма 1941–1945. История и психология подвига. М., 2003. Табл. 2. С. 87.
. Вклад женщин в военную экономику был ключевым, что, в конечном счете, признал Сталин 1 мая 1944 г. Славя работников тыла, создавших условия для решающих побед зимой 1943–1944 гг., он впервые упомянул «неоценимые заслуги» женщин, «самоотверженно работающих в интересах фронта, мужественно переносящих все трудности военного времени, вдохновляющих на ратные подвиги воинов Красной Армии»
[8] См.: Приказ Верховного главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 г. // Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 2002. С. 117.
.
По мере того как после побед под Сталинградом и Курском коренным образом менялся ход войны, Сталин все чаще воздавал должное «самоотверженному труду советских людей в тылу». 6 ноября 1943 г. в речи накануне 26-й годовщины Октябрьской революции Сталин с гордостью отметил, что Советский Союз превзошел военно-промышленную мощь Германии, и приписал эту заслугу скорее «всенародной помощи фронту», нежели советскому партийному или государственному аппарату [9] 26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, 6 ноября 1943 г. // Там же. C. 99.
. Ровно год спустя он вспомнил и про сознательные «материальные лишения», «железную волю и мужественный дух советского народа», а также «беспримерные трудовые подвиги» советских женщин, юношей и девушек [10] 27-я Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, 6 ноября 1944 г. // Там же. C. 126–127.
. Однако, как подчеркивает Виктор Черепанов, Сталин не говорил, да и не мог сказать, чего им это стоило [11] Черепанов В. В. Власть и война. Сталинский механизм государственного управления в Великой Отечественной войне. М., 2006. С. 125.
.
«Все для фронта! Все для победы!» – так звучал советский призыв к тылу времен Великой Отечественной войны. Этот лозунг выражал полную поддержку Красной армии. Ее требовало от тыла советское государство в секретной директиве, принятой через неделю после вторжения сил «Оси» на территорию СССР. Одобренная лично Сталиным, она приказывала всем партийным и государственным руководителям под угрозой военного трибунала «быстро и решительно перестроить всю свою работу на военный лад» и «укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности» [12] См.: Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, не ранее 29 июня 1941 г. URL: http://encyclopedia. mil.ru/files/morf/VoV_Vol10_Dokumenti.pdf (приложение) [03.01.2017].
. Она стала «программным документом», нацеленным на полное «превращение государства и общества в единый военный лагерь» [13] Черепанов В. В. Власть и война. С. 95.
.
Практически аналогичные обязанности Сталин возложил на тыл в своем радиообращении к советским гражданам от 3 июля 1941 г.: «Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага… Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий».
Сталин призвал еще жестче развернуть кампанию по «очистке тыла» от всех тех, кто мог бы подорвать военные усилия СССР, на что указывает и Стивен Барнс в своей статье [14] Barnes S. A. Motivating Forced Labor on the Soviet Home Front: The Gulag at War.
: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов… Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица» [15] Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 14–15.
.
Параноидальная мысль Сталина о предательской пятой колонне была навязчивой идеей деспотичной элиты, которая, по утверждению Бернда Бонвеча, боялась собственных граждан. Шпиономания, усиленный партийный контроль, ежедневный террор НКВД свидетельствовали о «панической реакции» режима на потенциального врага. Она улеглась лишь тогда, когда «руководство осознало: люди защищают свою страну и участвуют в военных действиях добровольно, а не из страха наказания». Поскольку на кону стоял вопрос выживания, сталинское государство дало обществу «передышку», чтобы, главным образом, мобилизовать интеллигенцию [16] Bonwetsch B.. War as a “Breathing Space”: Soviet Intellectuals and the “Great Patriotic War”// The People’s War. P. 142–146.
. И тем не менее на протяжении последующих четырех лет ожесточенной войны режим принуждения вкупе с непрестанной патриотической и антифашистской пропагандой, а также жесткой цензурой стал основным инструментом привлечения женщин и молодежи к труду в тылу под лозунгом помощи фронту [17] См.: Байрау Д. Механизмы самомобилизации и пропаганда в годы Второй мировой войны // Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация убеждения» и мобилизационные механизмы / авт. – сост. А. Я. Лившин, И. Орлов. М., 2007. С. 25–38.
.
Читать дальше