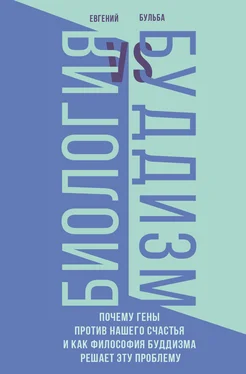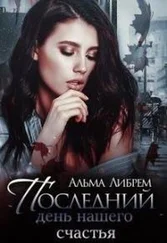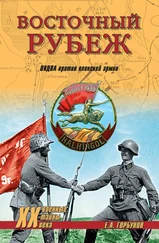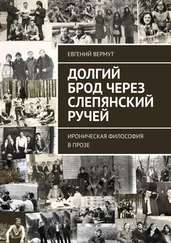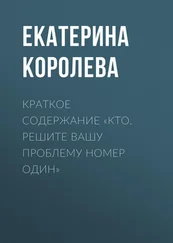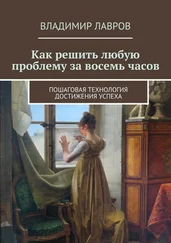Буддизм педантично описывает сансару ради того, чтобы мы давали себе ясный отчет о природе своих несчастий. В буддийских текстах упоминается классификация страданий, которые удивительно созвучны современности. В тексте ламы Цонкапы «Ламрим Ченмо» они названы «горестями»: неопределенность, одиночество и ненасытность.
Если проводить параллели, то вышеописанное отражает Первую истину в той ее части, которая говорит о горести ненасытности. Также наша постоянная погоня за неуловимым счастьем и самогипноз воспоминаний совпадают с описанием Второй истины.
С точки зрения биологии горесть неопределенности выглядит очень даже определенной – это работа сети пассивного режима, постоянно высматривающей возможные опасности. Ожидание опасности заставляет нас реагировать на огромное количество надуманных предлогов. Поскольку предки приложили немало сил, чтобы дать нам возможность родиться, их постоянная готовность встретиться с опасностью и реагировать имела свой смысл. Мы сегодня живем в намного более безопасном мире, однако платим ту же цену. Хронический стресс приводит к так называемым болезням цивилизации – сердечно-сосудистым болезням, диабету, онкологии… Никто из нас не знает, какую цену заплатит именно он, но то, что никто из нас не избегнет болезней старости, – это можно сказать наверняка.
Еще более очевидной выглядит горесть одиночества. С биологической точки зрения одиночество – неестественное состояние. Человек – стайное животное, логика его развития подразумевает жизнь в окружении партнеров. Мы обладаем врожденными органами, отвечающими за сотрудничество. Это зеркальные нейроны, одна из функций которых – эмпатия. Мы обладаем специальными возможностями для изучения языка и обучения другим навыкам, если эти возможности не задействованы в соответствующем возрасте, то человек вырастет неполноценным. У нас есть встроенные механизмы стыда, совести, альтруизма, репутации, парохиальности… Суммируя, можно сказать, что для нас жизнь в обществе безальтернативна. Все эти механизмы заставляют некоторых из нас мучительно переживать даже подозрение на одиночество. Одновременно с врожденными механизмами, отвечающими за партнерство, мы снабжены инстинктом самосохранения, эгоизмом, соперничеством, конкурентной агрессивностью, стремлением выстраивать иерархию и продвигаться по ней… Эти качества неизбежно заставляют нас вступать в противоборство и очерчивать границы. И, подчиняясь им, мы ощущаем свою отдельность, граничащую с одиночеством. То есть наша жизнь проходит в постоянных качелях между необходимостью быть частью группы и стремлением к доминированию и проведением границ.
Кроме того, с появлением городов горесть одиночества приобрела совсем уж драматический оттенок. Вокруг нас вращаются тысячи лиц, но при этом одиночество стало проблемой более острой, чем несколько сотен лет назад. В чем здесь дело? 180 тысяч лет наши предки жили в условиях малой группы. Наша оперативная память в состоянии удержать 200–300 контактов. Очевидно, это и был уровень населенности окружающего мира, к которому мы приспособлены. Средняя численность племени, в котором сотни тысяч лет жили наши предки, – 50–150 человек. Это был привычный, знакомый мир. Для того чтобы увидеть действие наших эволюционно отточенных психологических адаптаций, стоит пожить в деревне на 100–200 жителей. А еще лучше, в племени собирателей.
Для представителя нашего вида каждое незнакомое лицо – это легкий стресс, незнакомец вызывает легкое напряжение и запускает исследовательский инстинкт. То, что мы сегодня каждый день встречаем больше людей, чем наши предки за всю жизнь, нельзя назвать здоровой обстановкой. Ценой легкого стресса мы научились отгораживаться от незнакомцев, но при этом из-за темпа современной жизни наше племя на самом деле уменьшилось. Цена отгораживания от незнакомцев привела к тому, что мы реагируем на своих знакомых сдержанно – так же, как на многочисленных малознакомых людей. Мы эмоционально дистанцируемся от окружающих и попадаем в странную ситуацию – море новых лиц (что для человека тревожно) и очень маленькое племя (что для него еще более страшно).
Мы периодически слышим, что «человек – самое страшное животное», что ни одно животное не может быть таким жестоким по отношению к своим собратьям. Почему это давно приевшееся клише так живуче, почему постоянно всплывает в книгах, фильмах и в светских беседах? Почему общественная мораль дала такой катастрофический сбой?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу