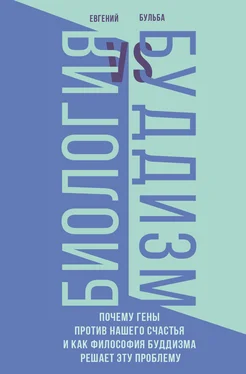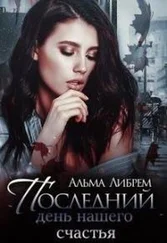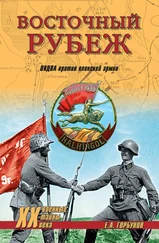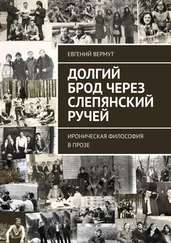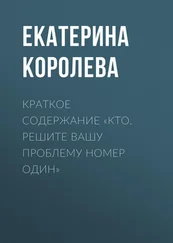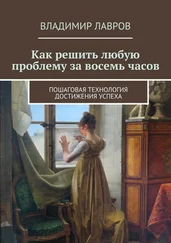Зеркальные и веретенообразные нейроны дают пищу для гипотез. Но, даже не будь их, наблюдение сложного поведения животных должно натолкнуть на мысль, что без четкого анализа себя как объекта невозможно не только взаимодействовать с партнерами, но и исследовать и запоминать местность, охотиться и скрываться, рассчитывать скорость бега и длину прыжка, производить пируэты в кронах деревьев и многое другое. Даже если бы мы не знали, какие структуры отвечают за эти функции, само их существование подводит к мысли, что у животных должен быть механизм просчитывания будущего, хотя бы краткосрочного. Эксперименты в этом направлении велись с крысами, и оказалось, что они прекрасно способны планировать сложную деятельность, выжидать и прогнозировать вероятность успеха.
Самый важный вывод, который мы можем сделать в связи с этой темой, – эмпатия и способность к сопереживанию является самой глубинной, незаменимой частью нашего самоосознания. Иначе говоря, основа сопереживания является также и основой начального самоосознавания.
Ты просто жестокая обезьяна.
Фраза из фильма «Страховщик» (реж. Габе Ибаньес, 2014)
Рассуждая об альтруизме, мы все время говорим о сотрудничестве в группе. Подразумевается, что эгоизм ведет к борьбе с соседями по группе, а альтруизм – к жертвам ради интересов группы. В обоих случаях без группы никуда. Получается, что существование группы является условием альтруизма. Но что происходит за пределами группы? Какое отношение к независимому одиночке или представителю другой группы? И как формируются группы? И если группы нет, не заставляет ли нас врожденное стремление к альтруизму видеть группу там, где ее нет?
Для появления устойчивых четко ограниченных групп видовая эволюция должна была пройти длинный ряд способов сотрудничества, о некоторых из которых мы уже говорили. Внутри группы индивиды соперничают, но что происходит, когда они сталкиваются с такой же организованной группой? Ресурсы ведь не бесконечны. Неизбежна борьба. В этом случае эгоистичный интерес частично обращается на службу сотрудничеству – индивид оказывается в ситуации, когда его успех зависит не только от соперничества внутри группы, но и от того, насколько успешно его группа сплотится для борьбы с внешней агрессией. В таких условиях даже для эгоиста личный успех зависит от успеха группы. Упрощая, можно сказать, что наличие врага способствует сотрудничеству, а в эволюционной перспективе – развитию альтруизма в группе.
Для обозначения этого вида альтруизма принят термин «парохиальный» (с греческого – относящийся к приходу, пастве). Парохиальность проявляется в том, что по отношению к «своим» существо проявляет альтруизм, а по отношению к «чужим» – враждебность.
Этот вид альтруизма у людей проявлен максимально. В нашей жизни это выражается всем многообразием борьбы фракций. Патриотам, поддерживающим агрессию своих стран, вероятно, будет неприятно узнать, что ими движет генетически предопределенный механизм групповой солидарности. Парохиальность также управляет всевозможными религиозными адептами и экстремистами – все многообразие и логическую изощренность межрелигиозного диспута тоже запускает этот очевидный механизм. В основе противостояния умудренных религиозных философов и уличной банды малолеток лежит один и тот же инстинкт. И приводит к одному и тому же результату – сплочению группы и новому витку межгрупповой агрессии.
Следующая мысль, которая тревожно вламывается в сознание: если люди развили такие сложные формы сотрудничества и среди них так сильны альтруистические мотивации, значит, они должны быть крайне агрессивны в межгрупповой вражде. Иначе внутригрупповой альтруизм был бы гораздо слабее. И поскольку ни одно другое животное не проявляет альтруизм так ярко, значит, люди наиболее кровожадные существа на планете? Так ли это?
Насекомые проявляют родственный альтруизм (порождаемый родственным отбором), и муравьиные войны ведутся семья на семью. У более сложных животных развивается реципрокный альтруизм, который ни к чему подобному привести не может. Выраженный парохиальный альтруизм встречается редко – как уже говорилось, для этого нужен высокий уровень организованности. Межгрупповые войны (и, как следствие, парохиальный альтруизм) обнаружены у немногих видов – у некоторых стайных хищников, сбивающихся в большие неродственные группы, – диких собак, волков… Ну и конечно, у приматов. Паукообразные обезьяны совершают настоящие военные походы на соседей. Шимпанзе иногда предпринимают организованные рейды на чужую территорию, чтобы напугать и избить представителя другой группы. Убийства при этом случаются редко – шимпанзе недостаточно склонны к альтруизму, чтобы рисковать здоровьем. Что важно, дело тут не в недостатке агрессии, а именно в меньшей, чем у людей, парохиальности. Они идут с вполне ясной целью – запугивание конкурентов и готовы убивать, но убивают редко.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу