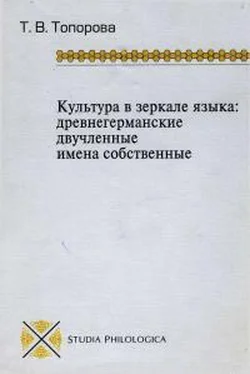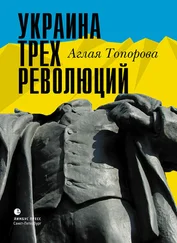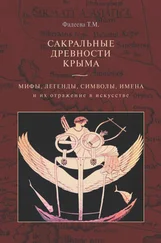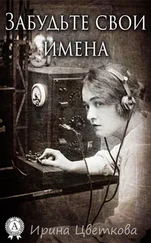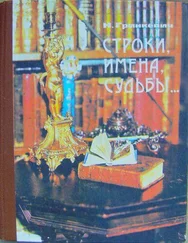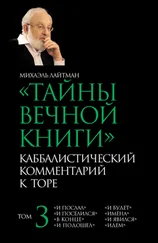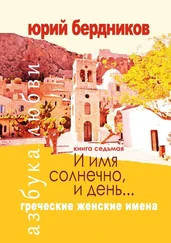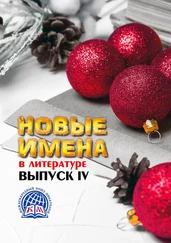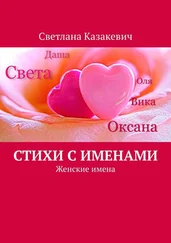Установка мифологического сознания на тождество или внутреннюю связь имени и его носителя предполагает первоначальный акт имяположения и образ имядателя, сотворившего вещи и их имена. Подобные представления зафиксированы в ряде мифопоэтических традиций. В соответствии с древнеиндийским мифом (Ригведа X, 71, 2 и X, 82, 3; [Иванов 1984]), вещи получили названия в результате установления имен (namadheya). Ср. также древнеиранские параллели: Ahur5 Mazdao nam?m dadai “Ахура Мазда имена установил”
(У, 38, 4). Ведийскому и древнеиранскому “установителю имен” генетически тождествен древнегреческий оно-матет (6vopa0eTTi£), наиболее ранние свидетельства о котором относятся к пифагорейской школе 6 6 Ср. центральную тему диалога Платона “Кратил” -установление имен.
. Старославянские данные также позволяют реконструировать сочетание *jbme deti ‘называть именем’ [Топоров 1980, 510]. Аналогичный пример известен и из древнескандинавской мифологии. В “Младшей Эдде” [1970, 19] повествуется о сыновьях Бора, сотворивших из дерева людей и нарекших их именами. Показателен и отрывок из “Старшей Эдды”: “Тогда пошли боги на троны могущества... ночи и фазам луны название дали, утро нарекли и середину дня” [1963, 9]. О ритуальном характере имяположения и величайшей ответственности, возложенной на установителя имен, можно судить, в частности, по древнегреческим источникам. В некоторых пифагорейских изречениях указывается, что “после числа на втором месте по мудрости находится тот, кто установил имена (о та ovopaTa irpaypaai Oepevoc)”[Иванов 1964, 88], а в диалоге Платона “Кратил” утверждается, что “устанавливать имена - дело не всякого мужа, но некоего творца имен (6 vopaTovpydc)”[389].
Важным следствием типичного для мифопоэтического сознания отождествления имени и природы его носителя явилась креативная функция называния, сополагающая процесс созидания и номинации, согласно которой имя оказывает активное воздействие на индивида, формирует его как личность, определяет его судьбу, т.е. оно первично по отношению к объекту. Тезоименитство сопоставимо с грамматическими категориями оптатива или императива, поскольку имя содержит пожелание или приказание (ср. ст.-слав. Ceimo-славъ ‘пусть он обладает святой славой’ и др.). В архаичном обществе ситуация называния вещей рассматривается как заключительный этап демиургического акта. Изреченное имя материализуется, мгновенно превращаясь в элемент структуры мира 7 7 6 Ср. 6 В. II, 1, 6, 3: "Prajapati сказал “bhuh”: это слово стало землей" [Gonda 1970, 8] или библейские параллеи. Ср. также действенность произнесения имени бога при изгнании бесов в христианокой традиции, аналогичное категории делокутивности [Heiler 1961, 315].
. На принципе замены именем его носителя основана словесная магия, при которой через имя оказывают воздействие на его обладателя. Манипулирование именем для достижения практических целей обусловило усиление положительных моментов в nom.pr., наречение “приятными” именами или, наоборот, называние “плохим, неблагоприятным” именем с тем, чтобы злые духи не причинили вреда его носителю. Мифопоэтическая трактовка называния как акта творения подтверждается и другими данными, ср., напр., переименование при переходе индивида в иной возрастной или социальный класс как перевоплощение, перерождение, представления о необходимости бережного хранения nom.pr., конституирующего сущность субъекта, табуирование “истинного” имени, существование разветвленной системы имен, компенсирующих отсутствие настоящего имени и др..
Дополнительное имя ассоциировалось со счастливой судьбой: “Брахману, обладающему двумя именами, будет сопутствовать успех” (TS б, 3, 1, 3; [Gonda 1970, 82]), “В то время люди имели по два имени: это приносило счастье и долголетие” (Hauksbok, [Wessen 1927, 78]).
Плюрализм имен в мифопоэтической модели мира был вызван, с одной стороны, необходимостью закодировать
подлинное имя и, с другой, стремлением отразить различные аспекты субъекта. Семантически мотивированное и фонетически и морфологически прозрачное имя выполняло определенную коммуникативную задачу, передавало информацию о денотате. Тезис “Младшей Эдды” о том, что “некоторые имена произошли от деяний” [1970, 27] подтверждается многочисленными примерами. Перечисление имен, как правило, сопровождается указанием причин номинации. Ср.: “Одина называют Всеотец, ибо он отец всем богам. И еще зовут его Отцом павших, ибо все, кто пал в бою - его приемные сыновья” [Младшая Эдда 1970, 26]. Некоторые имена отражают мифологические или героические мотивы и сюжеты. Единство имен позволяет установить “номенклатурную и ипостасную преемственность” [Топоров 1979, 149] в мифопоэтической традиции, создать определенную иерархию, отождествить персонажей различных хронологических уровней. Множественность наименований объекта связана также с метафоричностью обозначений и свидетельствует о поэтической природе nom.pr., “апелля-тивный фон которых составляют поэтические обозначения правителей и воинов” [Schramm 1957, 23].
Читать дальше