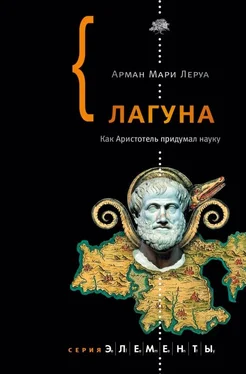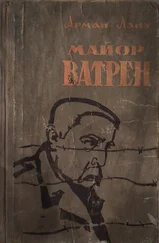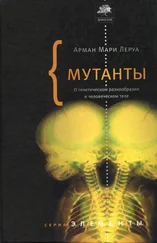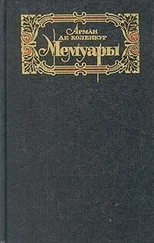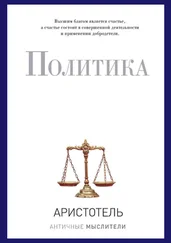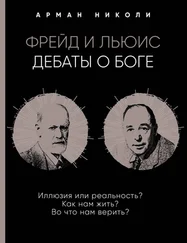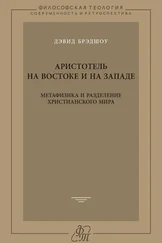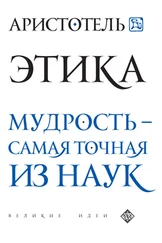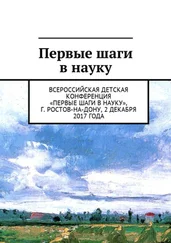В книге Voles, Mice and Lemmings: Problems in Population Dynamics (1942) Чарльз Элтон отмечает, что данный отрывок указывает на суть проблемы регуляции численности популяции.
Я не заявляю, что Аристотель представляет себе принцип конкурентного исключения (принцип Гаузе) или модель “хищник – жертва” Лотки и Вольтерра. Ему и не надо было их представлять, поскольку точка зрения, что животные задуманы такими, чтобы поддерживать баланс природы, с большой вероятностью была в античной Греции общепринятой. Так, складывается ощущение, что Геродот заявлял, будто у хищников появляется на свет меньше детенышей, чтобы они не уничтожили всю доступную добычу: “Божественный промысел, как это и естественно, в своей премудрости сотворил всех робких и годных в пищу животных весьма плодовитыми, чтобы у нас не было недостатка в пище, хищных же и вредоносных – малоплодовитыми …” [курсив мой].
А что если глобальная телеология Аристотеля еще мощнее? Может ли быть так, что, расширяя рамки применения моего сравнения, компании не просто связаны сетью взаимовыгодных взаимоотношений, направленных на получение выгоды, но направлены на это некоей высшей силой для достижения некоей высшей цели? Тогда это было бы похоже на то, что в 80-х гг. сделало Министерство внешней торговли и промышленности Японии. Оно руководило конгломератами кэйрэцу ради благополучия национальной экономики. Возможностей взаимодействий индивидов огромное множество – от крайнего индивидуализма до объединения в сверхорганизм, и очень трудно определить, в какую часть этого спектра помещал свой собственный мир Аристотель.
Пер. А. Гопко. – Прим. пер.
Акула у Аристотеля – определенно “рассудительный хищник”. Эту фразу впервые применил Л. Слободкин в книге Growth and Regulation of Animal Populations (1961). В. К. Уинн-Эдвардс в книге Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour (1962) заявил, что “рассудительные хищники” могут эволюционировать путем группового отбора, т. е. что сообщества живых существ следует рассматривать как самоподдерживающиеся системы, и привел множество примеров интерпретации поведения животных в этом ключе. Джордж К. Уильямс в книге Adaptation and Natural Selection (1966) разгромил позиции Уинн-Эдвардса. Он указал на то, что групповой отбор – очень слабая сила и почти все адаптации, включая хищническое поведение, проще интерпретировать как результат индивидуального отбора или генного отбора. Несмотря на то, что в последнее время концепция группового отбора снова становится популярной, его вывод и сейчас звучит вполне правдоподобно.
Галилей, напротив, поспорил бы, что движущийся объект придет в состояние покоя лишь тогда, когда встретится с воздействием, равным ему по силе, но противоположно направленной. Этот принцип закрепил Ньютон в первом законе механики. Аристотель не был знаком с понятием инерции.
Аристотель знает о существовании комет и метеоритов, но считает их объектами подлунного мира. Древнегреческие астрономы, очевидно, не наблюдали сверхновых, хотя это делали их китайские коллеги.
Евдокс, родившись в Книде ок. 390 г. до н. э., юношей предпринял поездку в Афины, чтобы пройти обучение в недавно организованной Академии. Затем он поехал в египетский Гелиополь, чтобы изучать астрономию, и почти сразу же – в Италию, чтобы учиться с другом Платона Архитом Тарентским и с Филистионом из Локри, врачом-философом. Видимо, Евдокс был крайне беден, и держаться на плаву ему помогали друзья и страсть к учению. После путешествий он вернулся в Академию, где встретил Аристотеля. К тому времени у него самого были ученики, среди них – Каллипп, позднее присоединившийся к Аристотелю в Ликее. Евдокс в конечном счете вернулся в Книд, где построил обсерваторию, и провел остаток своих дней, наблюдая за звездами, читая лекции и выполняя законодательную работу для городских властей.
Аристотель указывает, что окружность Земли 400 тыс. стадиев (чья это оценка, он не сообщает). Длина стадия точно не известна (столько успел пройти Геракл с момента, как первые солнечные лучи появились над холмом Крона в Олимпии, и до того, как солнце поднялось). Оценки варьируют от 150 до 210 м, но, приняв среднее значение (180 м), мы получим 72 тыс. км (в 1,8 раз больше окружности экватора). Через поколение Эратосфен оценил окружность Земли в 250 тыс. стадиев, или 45 тыс. км (всего в 1,2 раза больше реального значения). Аристотель также добавляет биогеографические доказательства шарообразной формы Земли: слоны обитают и в Африке, и в Азии, поэтому те, кто заявляет о существовании на западе непрерывной земной тверди между Геркулесовыми столпами и Индией, правы. Альфред Рассел Уоллес и Альфред Вегенер использовали биогеографию, чтобы доказать существование в прошлом перемычек между континентами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу