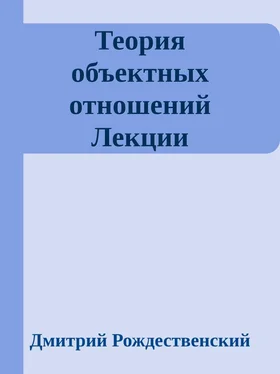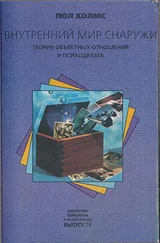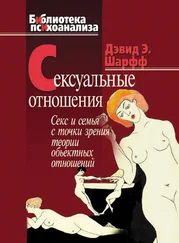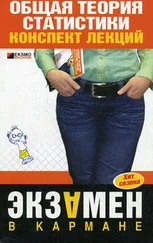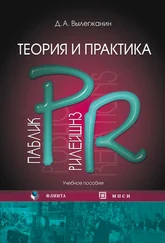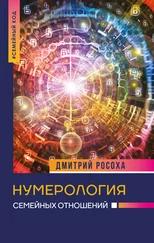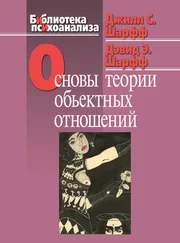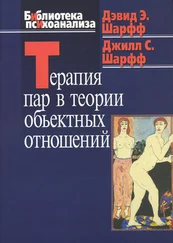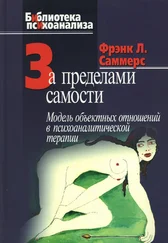1. Представление о влечениях как главном источнике человеческих мотиваций;
2. Подход к субъекту как к носителю исключительно внутрипсихического (интрапсихического) конфликта.
Фрейд состоял в непростых отношениях с биологией. Как ученый Фрейд сформировался в атмосфере научного позитивизма, и еще в середине 1890-х годов пытался объяснять истерические явления с позиций физиологии. Он пытался положить в основу психологических мотиваций потребность в сексуальной разрядке – т. е. потребность, которая идет изначально от физиологии, а не от психологии.
Парадокс отношений Фрейда с физиологией
Еще в 1908 году, в одной из статей, Фрейд писал, что психоанализ – это временное средство и будущее за органической химией и фармакологией, и когда-нибудь наука обязательно достигнет того уровня развития, когда можно будет с помощью таблеток или инъекций активизировать и доводить до конца все те процессы в психике, для которых сейчас нам нужно психоаналитическое лечение.
С другой стороны, он повторяет ученикам: постарайтесь не вступать с физиологией в противоречие и держитесь от нее на почтительном расстоянии. Именно поэтому Фрейд, говоря, по сути, об инстинктной стороне человеческой жизни, настаивал на термине «влечение». В его работах крайне редко можно встретить латинское слово «инстинкт», он везде заменяет его на Trieb – влечение , подчеркивая, что его интересует психологический аспект явления.
Влечение – психологическая репрезентация ,представительство некоторого соматического процесса (психологическая репрезентация инстинктов). И хотя в работе «Я и Оно» Фрейд пишет, что человеческое Я прежде всего телесно, что чувство своего Я начинается у ребенка с чувства своего тела, но дальнейшего развития в его работах этот важный тезис не получил.
Это привело психоанализ к определенной односторонности – бессильности перед проблемой актуальных неврозов, т. е. не имеющих символической причины (вызванных физиологическими причинами: утомляемость, раздражительность, бессонница). Лечение актуальных неврозов, а вслед за ними и психосоматических расстройств стало возможным только тогда, когда появились психоаналитики, утверждавшие, что психическое и телесное нераздельны, что имеет смысл говорить только о психофизиологическом единстве личности.
IV. Современные взгляды на теорию объектных отношений
Современный психоанализ рассматривает тело как неотъемлемый аспект Я, личности субъекта.
Тело – это не только субъект нашего Я, но и объект для нашего Я (Фрейд, 1905). Со своим телом мы выстраиваем отношения как с другим человеком, как с внешним объектом, и эти отношения могут быть или нормальными или патологически искаженными, например, в сторону чрезмерной идеализации или чрезмерного отрицания.
Это единство психофизиологической организации подтверждается еще и тем фактом, что до определенного времени у новорожденного психическое и телесное не существуют по отдельности, у него нет отдельно ни психических, ни телесных процессов, а есть психофизиологические процессы, которыми поддерживается психосоматический баланс, в первую очередь за счет вегетатики.
Тело младенца с очень ранних стадий его развития становится важным участником отношений, т. к. первый опытвнешних восприятий для младенца – именно телесный,через тело младенец структурирует свое Я. Структурирование подразумевает соотнесенность моего телесного Я с миром объектов, в этом смысле тело – участник отношений. Соотносясь с внешним миром, телесное Я самоопределяется в этом мире, т. е. формируется сначала из разрозненных объектов, потом по мере развития интегративной функции обретает целостность.
Соотнесенность и самоопределение – две стороны одной монеты. Переживания анаклитической депрессии (доминирующее переживание: «меня бросили», «я – одинок») и интроективной депрессии («я плохой, я ничтожный») не имеют четкой границы, они всегда представляют собой две стороны одной монеты. Одна из сторон может в большей степени манифестироваться, в то время как другая остается латентной (неявной, скрытой). Если «меня бросили» это отчасти означает, что я плохой, я какой-то не такой. Если «я плохой», это означает, что меня бросилиили бросят, в общем, это как-то повлияет на отношения.
И если мы признаем, что опыт самоопределения и соотнесенности с объектом тесно связаны, тогда и роль объекта может быть увидена нами по-другому: объект,через соотнесенность с которым мы формируем свое Я, оказывается нам экзистенциально необходим. Потребность в объекте превращается в мотивационный фактор, не менее сильный, чем потребность в разрядке влечения.
Читать дальше