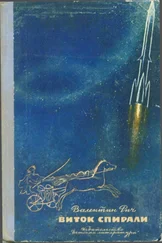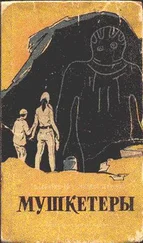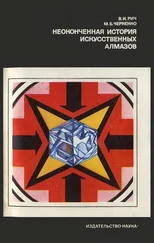Особенно показательны слова с соседствующими коренными согласными б и р. Поскольку согласные вообще образуют скелет слова и дольше сохраняются в первоначальном виде, они способны доносить до нас разнообразную информацию из глубочайшей древности. В частности, упомянутые согласные донесли до нас сведения о том, где обитали общие предки русских и англичан. Припомним русские слова, связанные с лесом: бор, боровик, береза, бревно, брус, брусника, барбарис, бересклет, боярышник, берлога, бурый, барсук, бирюк (волк), борода и бровь (как мох у дерева), бурундук, бортничество, собирательство.
И берендеи (лесные духи?), возможно, сюда же. А вот некоторые английские слова с теми же согласными: birch (береза), branch (ветка), bar (брусок), board (доска), brace (подпорка, распорка), bracken (папоротник), brake (чаща, кустарник), browse (молодые побеги), berry (ягода), bear (медведь), brown (бурый). А пчела у них — bee, без r, — наверное, чтобы не путать с медведем.
И говорили на одном языке, и жили в одном и том же месте — в березовом лесу, полном ягод и медведей.
А еще мне кажется подозрительным, что те же согласные бр входят в состав таких «ветреных», с северным оттенком, слов, как Борей, бореальный, буран, буря, бора (ураган в районе Новороссийска). С чего бы это?
Не оттого ли, что самые сильные ветры валили деревья, устраивали бурелом?
Пробирали насквозь?
Заставляли произносить: бррр?
Самое трудное для иностранца в зрелых годах не читать по-английски, не писать и даже не говорить, а понимать, что тебе говорят. Разница между нормативной речью и разговорной — не меньше, чем между каллиграфией и скорописью. Безударные звуки редуцируются, гласные становятся все на одно лицо, создается множество звуковых рефлексов — взаимовлияний соседствующих звуков, слова сливаются между собой, а попадая во фразеологические сочетания, принимают совсем иные значения. Уж не говорю о жаргоне. Поэтому выученный на пятерку в школе или вузе иностранный язык может служить лишь фундаментом, на котором еще предстоит выстроить пригодное для обитания жилище. Пятилетний ребенок может сделать это за неделю, десятилетний — за месяц, мужчина до тридцати лет и женщина до сорока — за год, человек пенсионного возраста, в лучшем случае, — лет за пять-шесть. В худшем же, в особенности это относится к мужчинам, чьи вербальные способности, как правило, хуже, чем у женщин, — не могут никогда.
Наилучшим способом постижения чужой речи служит, конечно, погружение в нее в процессе повседневной жизни, когда все слышимое функционально связано с теми или иными предметами и действиями и запоминается на уровне условного рефлекса. К сожалению, у меня такого полноценного погружения в океан английской речи не получилось. С самого начала канадского периода моей жизни я оказался в так называемом русском районе, населенном в основном выходцами из Советского Союза и государств, на которые он распался. Русская речь постоянно звучала вокруг меня, где бы я ни находился — на улице, в парке, в магазинах, в офисах врачей, в банках. Было полно русских книг и газет. Можно было слушать русское радио и смотреть русское телевидение. Поэтому на пятом-шестом году пребывания в Канаде я мог: заполнить анкету, чек, бланк заявления; понять общий смысл прочитанного в книге, журнале, газете; написать письмо — личное и деловое; изложить свои нужды в магазине, банке, кабинете врача и больнице, государственном учреждении.
Но понять, что мне говорили по телефону, что вещали по радио и телевидению, о чем беседовали киногерои, мне было крайне трудно, я не всегда умел ухватить даже тему разговора.
Кроме всего прочего, дело вероятно, и в том, что устная речь изменяется гораздо быстрей письменной.
Недаром хорошие врачи при первом знакомстве с новым пациентом расспрашивают его о том, чем болели его родители, а самые лучшие просят рассказать и про дедушек с бабушками. Все мы чем-то походим на наших предков. Вот и во мне, например, явно сказываются гены маминого дедушки Иосифа.
Я всегда любил фантастику — прежде всего за то, что она пробуждает новые взгляды на мир. И все мои друзья ее любили за то же самое.
Поэтому в своем журнале — «Химия и жизнь» мы публиковали кое-что, не признаваемое «настоящей» наукой. Так, первыми из массовых изданий мы напечатали и ставшую ныне широко известной историческую гипотезу академика-математика Фоменко, развивающего взгляды шлиссельбуржца Морозова, изложенные в его знаменитом труде «Христос». Морозов считал, что события, о которых повествуют евангелисты, на самом деле происходили не в древности, а в Средние века, и не в Палестине, а в Италии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу