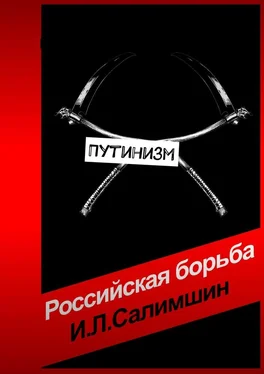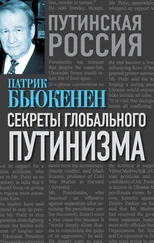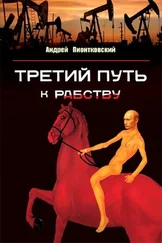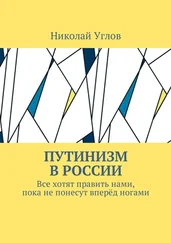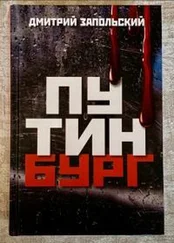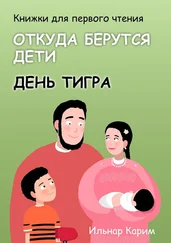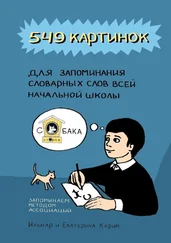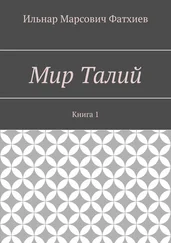Этот экзистенциальный способ мышления стал обычным явлением в официальном дискурсе. В 2000 году Путин сказал телезрителям: «Государство- это не только… географическая территория, отмеченная границами, это прежде всего закон, это конституционный порядок и дисциплина. Если эти инструменты слабы, то и государство слабо. Или оно просто перестает существовать». В 2003 году он заявил Федеральному Собранию, что «во все периоды, когда страна была ослаблена, будь то политически или экономически, Россия всегда неизбежно сталкивалась с угрозой распада страны». Это ощущение надвигающегося кризиса продолжало наполнять дискурс Путина даже после более чем десятилетнего пребывания у власти. В 2012 году в послании Федеральному Собранию он сказал: «Только в 20 веке Россия пережила две мировые войны и гражданскую войну, революции и дважды пережила крах единого государства. В нашей стране весь уклад жизни несколько раз кардинально менялся. В результате в начале 21 века мы столкнулись с настоящей демографической и моральной катастрофой. Если нация не в состоянии сохранить и воспроизвести себя, если она теряет ориентиры и идеалы, ей не нужен внешний враг, потому что она развалится сама по себе.».
Зигмунт Бауман напоминает нам, что" без негативности хаоса нет позитивности порядка; без хаоса нет порядка». Для Путина и его когорты сотрудников органов безопасности советской эпохи весь период с 1985 по 2002 год-периодизация, используемая Булдаковым, – был временем системного кризиса. Изображение периодов Горбачева и Ельцина как современной смуты проникло в российскую мысль в 2000-х годах. Временами эта версия событий намеренно преувеличивалась, но «хаотические 1990-е» не были просто циничным повествованием, оправдывающим авторитарный поворот. В то время потенциальная «дезинтеграция» или «коллапс» России также широко обсуждалась в западных комментариях, причем аналитики указывали на Россию «в смятении», «несостоявшееся» или «несостоятельное государство», даже «еще одно Сомали», которое угрожало «пойти по пути Советского Союза».
Реальность России в 1990-е годы для многих российских граждан была страной, которая столкнулась с «общим хаосом в управлении во всех сферах политической жизни» и «почти полным отсутствием эффективного государственного контроля над российской территорией». Столкновения за политический суверенитет между президентом и парламентом привели к вооруженным столкновениям в центре Москвы в 1993 году, в результате которых погибло более 170 человек. Военные институты и институты безопасности фактически стали самостоятельными субъектами в вопросах суверенной власти. Президент больше не был эффективным суверенным лицом, принимающим решения, а был лишь одним из центров власти среди многих. Чечня стала де-факто отдельным государством после провала катастрофической военной кампании в 1996 году. Другие регионы игнорировали Москву и становились все более автономными как в политических, так и в экономических вопросах. Закон и порядок в некоторых частях государства были нарушены, и к 1993 году в России был один из самых высоких показателей убийств в мире. Требование российского общества в ответ на эти проблемы, скорее всего, никогда не будет заключаться в большей либерализации и демократизации, как это отстаивают западные аналитики.
Эти проблемы на национальном уровне скрывают индивидуальный опыт беспорядков. Коллективные воспоминания были дополнены личными травмами – вспомните знаменитую историю Владимира Путина, молодого сотрудника КГБ, застрявшего в Дрездене в 1989 году, когда толпа протестующих собралась снаружи. Позвонив на ближайшую советскую базу для подкрепления и получив ответ, что «Москва молчит», Путин вышел на встречу с разъяренной толпой протестующих в одиночку, нарушив правила ведения боевых действий и угрожая своей карьере. Позже Путин сказал: «У меня тогда возникло ощущение, что страны больше не существует. Что он исчез. Было ясно, что Союз болен. И у него была неизлечимая болезнь – паралич власти». Государство отступило, больше не будучи суверенным, и Владимир Путин, сотрудник КГБ среднего звена в немецких провинциях, был вынужден выйти за рамки правил, чтобы принять решение.
Критики Путина часто преуменьшают этот портрет 1990-х годов как периода беспорядка, повторяя точку зрения Фридриха о том, что определенная степень хаоса была необходимой предпосылкой для достижения успехов в области свободы, справедливости и демократии. Несомненно, постсоветское понимание порядка было искажено советским опытом: многие нормальные виды деятельности, такие как торговля и частный бизнес, первоначально были обозначены как виды «беспорядка», отражающие нормы советской эпохи. Институциональное наследие – особенно среди спецслужб и служб безопасности – так называемых силовиков-также сыграло свою роль в воспроизведении особого бинарного понимания порядка и беспорядка, которое отражало институциональные предубеждения советской эпохи. Объясняет социолог Ольга Крыштановская: «Что такое беспорядок в глазах человека в форме? Это отсутствие контроля. Если нет контроля, это означает, что есть возможность для независимого влияния. Силовики рассматривают существование альтернативных центров власти в стране как угрозу целостности государства. Дума не подчиняется администрации президента? Расстройство. Вяхирев – не Кремль – управляет „Газпромом“? Расстройство. Некоторые партии чего-то хотят, или некоторые СМИ о чем-то говорят? Это все беспорядок, который нужно ликвидировать. И они его ликвидировали.».
Читать дальше