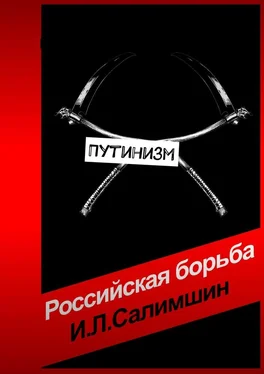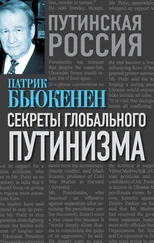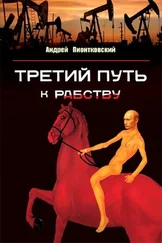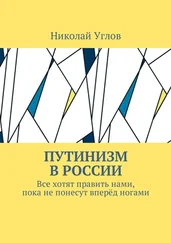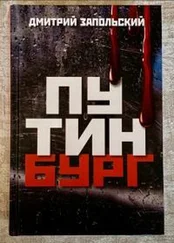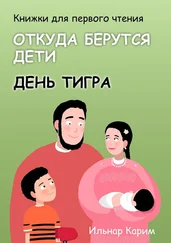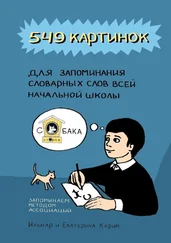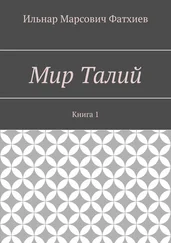Эти противоречия русского консерватизма были столь же очевидны и в подходе к демократии. С одной стороны, Путин считал себя демократом, пришедшим к власти через избирательную систему. Он неоднократно заявлял, что в XXI веке нет альтернативы какой-либо форме демократической легитимности. С другой стороны, как в элите, так и в большей части общества было широко распространено мнение о том, что политический плюрализм подорвал государство в 1990-х годах и должен тщательно управляться и контролироваться. Опыт Веймарской республики также побудил Шмитта бороться за то, чтобы примирить проблемы массовой демократии двадцатого века с необходимостью обеспечения политического порядка: его решение состояло в том, чтобы разделить две концепции «либерализма» и «демократии» и вместо этого предложить формы авторитарной демократии, предшественницы собственных инициатив России по «управляемой демократии» или «Суверенной демократии». В главе 4 я исследую эту версию нелиберальной демократии, возникшую в России при Путине, а в главе 5 я объясняю, как она стала опираться на различие между друзьями и врагами, в котором большинство населения было открыто в оппозиции к критикам и меньшинствам, которые стали называться «пятой колонной», работающими на иностранные державы и чуждые влияния.
Акцент Шмитта на исключении как способе управления для действительно суверенных правителей мгновенно задел струну в постсоветской России. С самого начала своего президентства Путин заявлял о своей готовности нарушать правила, чтобы навести порядок, будь то аресты олигархов по надуманным обвинениям или насильственная борьба с повстанцами в Чечне. Путин пришел к власти с народным мандатом восстановить порядок почти любой ценой, и у него не было никаких угрызений совести по поводу нарушения правовых норм на этом пути. В главе 6 я рассматриваю работу исключительности в российской системе правосудия, где дуализм возник между обыденным, повседневным правом, которое часто принимается вполне адекватно, и гораздо меньшим набором «судебных преследований по заказу», часто в сильно политизированных делах, которые направляются в соответствии с интересами политических и деловых элит. Дисфункциональная российская система правосудия также служит предупреждением о глубоких проблемах, создаваемых культурой исключительности. Исключительность как способ управления вряд ли может быть признана. Она распространяется по всей системе, пока различие между нормой и исключением не станет безвозвратно размытым.
Во второй части книги я рассматриваю мышление Шмитта о международном порядке и его отношение к эволюции российской внешней политики. Западные интервенции в Югославию и Ирак только усилили ощущение исключенности России из процесса урегулирования после окончания холодной войны, в то время как потрясения в результате «цветных революций» в Украине, в Грузии и Кыргызстане, а затем Арабская весна, все это способствовало восприятию того, что западная пропаганда гуманизма и демократии маскировала политику как преднамеренной, так и непреднамеренной дестабилизации. Шмитт долгое время использовался в качестве интеллектуального оружия левыми критиками внешней политики США, особенно его настойчивое утверждение, что продвижение универсальных либеральных норм, таких как права человека, было не более чем циничным прикрытием для американских попыток доминировать в мире. После 2005 года российская внешняя политика проводила идею российского суверенитета перед лицом того, что воспринималось как возглавляемая США однополярная система, в которой Россия была намеренно маргинализирована. Такая интерпретация международных отношений привела к двум важным результатам: во-первых, Россия распространила свою исключительность на международную арену. Как суверенная держава, Россия была бы готова нарушить правила системы, как это сделали США и их союзники в Югославии и Ираке. Результатом, обсуждавшимся в главе 7, стала аннексия Крыма, утверждение суверенитета через исключительность, которая бросила вызов президентству Путина.
Российская внешняя политика стала борьбой против либерального видения глобализации, которое провозглашало, что «Мир плоский», как выразился Томас Фридман, однородный порядок, построенный в соответствии с правилами и нормами Запада. В главе 8 я исследую, как Россия утверждала альтернативную топографию, сформулированную в серии пространственных проектов – «Русский мир», «Евразийская интеграция», «Большая Евразия», – которые были направлены на создание пространства в противовес «беспространственности» глобального порядка, в котором доминирует Запад. Влиятельные российские мыслители в области внешней политики рассматривали формирующийся международный порядок XXI века не как институты глобального управления, а как несколько крупных политико-экономических регионов, в которых доминируют крупные державы, что является возвращением к политике влияния в сфере прошлого. Целью России было утвердить свою центральную роль в качестве великой державы именно в таком «Великом пространстве», как Евразия. Эти идеи региональной гегемонии и пространственного разделения перекликались со многими собственными концепциями Шмитта о международном порядке, основанном на мире, разделенном на «Большие пространства», или Großräume.
Читать дальше