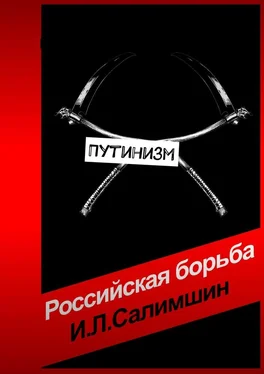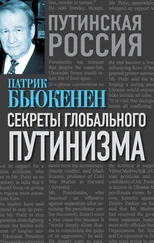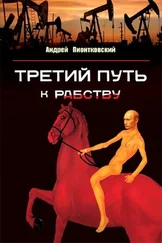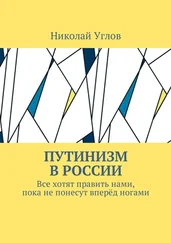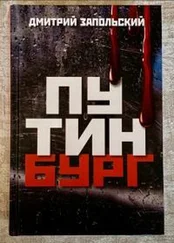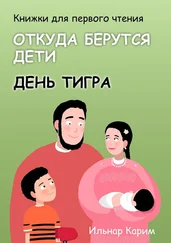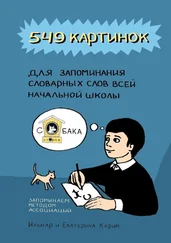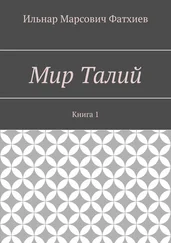Прежде всего, эти теории авторитаризма оставляли мало места для роли идей или убеждений. Исследование идеологических строительных блоков современного авторитаризма остается довольно редким в сравнительной литературе. Идеационные или другие нематериальные факторы считались неуместными в экономических теориях авторитаризма и в счетах рационального выбора. Действительно, для Гельмана политик с идеями – это теоретическая (и политическая) ответственность: «Если авторитарный правитель руководствуется своими идеями – набором ценностей, убеждений и верований- … тогда он может вести себя не как хорошо информированный максимизатор власти, а скорее как исследователь, путешествующий с неточной или устаревшей картой».
В этой книге я утверждаю, что все политики работают с «неточной картой» мира, набором концепций, которые интерпретируют реальность определенным образом и обусловливают потенциальные политические реакции. Эти когнитивные карты возникают в результате сложного взаимодействия прямых и косвенных идеологических влияний, постоянных ежедневных столкновений с социальной и политической реальностью, давних исторических и культурных тропов, а также влияния отдельных личностей и опыта. Политическая теория помогает нам понять, как составляются карты и почему некоторые из них доминируют в мышлении элиты, в то время как другие теряют всякую актуальность в качестве руководства для политических событий. Различные карты предлагали альтернативные направления и разные пути для того, чтобы добраться туда. На российской когнитивной карте понятия «демократия» и «диктатура», которые доминировали в западных концептуальных рамках, часто были блеклыми, иногда невидимыми. Совершенно другой набор направлений, обозначенных как «хаос» и «порядок», был выделен жирным шрифтом и представлял собой совершенно другую концептуальную двоичную систему, которая помогала интерпретировать реальность и направлять выбор политики.
Эти концептуальные карты формируют то, как мы понимаем политические угрозы и соответствующие меры реагирования. В исследовании Дэна Слейтера, посвященном авторитаризму в Юго-Восточной Азии, делается вывод о том, что ученые «переоценивают важность экономических выгод и недооценивают значение общих представлений об эндемической угрозе в объединении авторитарных коалиций». Слейтер утверждает, что устойчивые авторитарные режимы в Юго-Восточной Азии можно проследить до постколониальных контрреволюционных «пактов о защите», в которых элиты объединялись в авторитарные институты для противодействия вспышкам народных волнений. Эти коллективные воспоминания о беспорядках продолжают мотивировать и оправдывать авторитарные режимы в наши дни, воспроизводимые «механизмом воспроизводства отношения», который «влечет за собой восприятие элитой более ранних исторических эпизодов спорной политики», а также взгляды на то, насколько вероятно, что массовые беспорядки могут вновь возникнуть при более либеральной системе. Слейтер не полностью следит за этим процессом конструирования угроз, но конструирование реальных и мнимых угроз с помощью гегемонистских дискурсов и интерпретационных рамок является повседневной работой любого авторитарного режима, независимо от того, основан ли он на историческом опыте или нет. Воспоминания о прошлых волнениях и потенциальном будущем восстании конструируются и формируются дискурсом, идеологией и в области идей. «Бунт», как однажды заметил один из язвительных персонажей Джейн Остин, «происходит только в вашем собственном мозгу».
Аргумент Слейтера о том, что авторитарные режимы движимы общим восприятием угрозы, предполагает, что нам необходимо понять сферу идей, общих мировоззрений, «фреймов» и «дискурсов», которые интерпретируют и налагают порядок на реальность и определяют, какие политические реакции считаются законными. В последние годы растет число исследований, посвященных эволюции политической мысли в России, однако среди многих ученых все еще существовала тенденция отвергать роль идей в современной российской политике, вместо этого утверждая, что российский режим был неидеологическим, движимым рациональным расчетом, простым прагматизмом или основным стремлением к самообогащению. Крастев, например, утверждает, что быстрый сдвиг правительственных лозунгов в России – например, от «Суверенной демократии» к «модернизации» – «иллюстрирует постидеологический характер нынешнего режима» и демонстрирует, что элиты рассматривают его «как вариант, а не как альтернативу западной демократии». При таком образе мышления сам Путин остается абсолютным прагматиком, способным выйти за рамки любой идеологической смирительной рубашки, чтобы выбить из колеи своих оппонентов неожиданными ходами. Как выразился известный политический консультант Евгений Минченко, «Путин-дзюдоист, поэтому у него действительно нет никакой идеологии».
Читать дальше