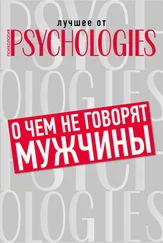– устранение дискриминации в условиях доступа российской продукции на иностранные рынки;
– возможность использования механизма разрешения торговых споров ВТО;
– улучшение климата для иностранных инвестиций в России в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
– расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО;
– создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции;
– участие России в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов;
– улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.
Надежды на то, что Россия сможет завершить переговоры о присоединении к ВТО и стать полноправным членом этой организации сохраняются. И только в этом случае организация по праву сможет называть себя «Всемирной».
Филитов А. М. Женевская конференция министров иностранных дел 1959 года по германскому вопросу: столкновение позиций, столкновение оценок
Обсуждение германского вопроса – от самого его возникновения с началом второй мировой войны и вплоть до его окончательного решения с концом холодной войны – было ярким и показательным примером многосторонней дипломатии. Началось это обсуждение еще в рамках встреч «Большой тройки» в период Великой Отечественной войны (Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 1943 г., конференции глав правительств антигитлеровской коалиции в Тегеране, Ялте и Потсдаме, начальный период работы Европейской Консультативной комиссии (ЕКК) в Лондоне), продолжилось в формате «четверки», когда к трем союзным державам присоединилась Франция (заключительная стадия работы ЕКК, сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) 1945–1949 гг., Женевский саммит 1955 г., конференции министров иностранных дел 1954 и 1959 гг., встречи четырех послов по Западному Берлину 1970–1971 гг.) и, наконец, завершилось переговорами по формуле «4 плюс 2» (четыре державы и два германских государства) в 1990 г.
Ближе всего к этому последнему образцу, оказавшемуся самым эффективным с точки зрения достижения взаимно приемлемого результата (хотя о характере и сути этого результата мнения расходятся) подходила Женевская конференция 1959 г., и это одна из причин выбора ее как объекта предлагаемого исследования.
Еще одна специфичная черта «Женевы-59», которая обусловила наш выбор, заключается в том, что это был единственный международный форум, посвященный исключительно германскому вопросу во всей его полноте и комплексности. На прочих встречах и переговорах, во время и после Второй мировой войны германский вопрос либо фигурировал как один из пунктов повестки дня, наряду с другими (например, австрийским или европейской безопасности), либо обсуждались производные, частные его аспекты, вытекающие из нерешенности главного и коренного (как это имело место при выработке соглашения 1971 г. по Западному Берлину). На Женевской конференции 1959 г. ее участники рассматривали западноберлинский вопрос (остро поставленный Хрущевым в его ноябрьских заявлениях 1958 г.) в тесной связи с более общим – о судьбах Германии в целом, не отвлекаясь на другие проблемы международной жизни – при всей их важности и актуальности (разоружение, локальные конфликты и т. д.).
Наконец, последнее по счету, но не по значению соображение, определившее наш выбор темы: Женевская конференция 1959 г. в значительной степени представляет собой «белое пятно» в историографии. Если говорить о нашей стране, то данный сюжет лишь очень кратко затрагивается в обобщающих трудах по истории международных отношений, причем явная тенденция – к все большей лаконичности [622].
Концепция, сложившаяся еще во времена СССР, базировалась на нескольких основных положениях: сам созыв конференции рассматривался как безусловное достижение советской политики (особенно при этом подчеркивался факт равноправного участия в ней представителей ГДР и ФРГ); отмечалась противоположность исходных позиций делегаций Востока и Запада, но в то же время уделялось внимание «положительным моментам» представленного на конференции западного плана решения германского вопроса и констатировалось, что «по отдельным пунктам наметилось известное сближение позиций» [623]; отсутствие согласованных решений объяснялось главным образом давлением ФРГ на своих союзников.
Эта концепция сохранилась и в современной российской историографии, хотя и с некоторыми нюансами. Несколько изменилась оценка политического значения присутствия на конференции представителей двух германских государств: если в работе, появившейся на пороге перестройки, этот факт категорично трактовался как означавший «признание западными державами де-факто ГДР» [624], то в недавнем фундаментальном труде он называется « шагом (курсив наш – А.Ф. ) к «перекрестному признанию» ГДР и ФРГ хотя бы де-факто» [625]. Можно отметить некоторое снижение уровня критики в адрес западной политики (зато исчез и тезис о «сближении» позиций Востока и Запада), менее четко называются причины и виновники недостижения соглашения, притом, что сильнее, чем прежде, подчеркивается склонность к компромиссу у лидеров Великобритании и Франции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
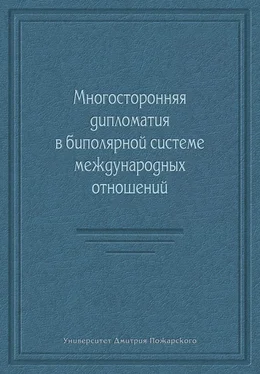






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)