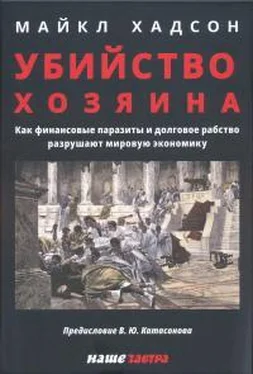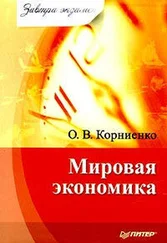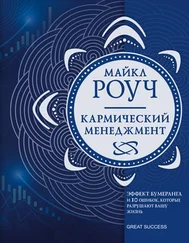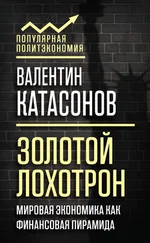Утверждение о том, что списание долгов держателям облигаций приведёт к системному финансовому краху, разрушив «доверие», — это рекламный миф. Он был создан лоббистами держателей облигаций как часть их «стратегии грабежа» ( Cry Havoc ) и похож на обман Гайтнера, что в банкоматах закончились бы наличные деньги и люди не смогли бы получить доступ к своим банковским счетам, если бы банки не были спасены.
Доказательства того, что это просто тактика запугивания, были предоставлены в марте 2012 года, когда греческие облигации в конечном итоге были списаны на 60-75 процентов. И не произошло никакого «заражения». Оглядываясь назад на судьбоносное апрельское решение 2010 года, Шадлер приходит к выводу: «Заражение» — в том числе в Испании и Италии — было бы перенесено, но мало кто утверждал, что это было бы хуже, чем оказалось».
В том же духе Блюстейн полагает, что «МВФ «должен был быть на противоположной стороне переговорного стола от ЕЦБ, а не на одной стороне». Но Стросс-Кан следил за своей политической репутацией во Франции и согласился принять МВФ в Тройку, присоединившись к политике ЕЦБ, благосклонной в отношении держателей облигаций. С марта 2012 года он продолжал использовать отказ от системного риска для реструктуризации долга, поскольку его «сотрудники не обнаружили высокой вероятности приемлемости долга. Тем не менее, высокий уровень субсидирования сохраняется. Есть ли этому какое-либо оправдание помимо политической целесообразности?»
События 2011 года показали, что «доверие» означает демонстрацию напускного спокойствия и воздержание от оценки реалистичной платёжеспособности должника. Такое приглушение недоверия было политически необходимо, потому что, как только следует признание, что долги не могут быть выплачены из налоговых поступлений и за счёт жёсткой экономии, основные моральные принципы требуют, чтобы долги были аннулированы. Ни одну страну — должника нельзя обязывать совершать экономическое самоубийство, ликвидировать общественное достояние и вынуждать эмигрировать 5, 10 или 20 процентов её населения, как это сделала «страна успеха» Латвия и также последовавшая за ней Греция. Вопрос в том, чей интерес должен быть приоритетным: требования кредиторов или экономический рост и занятость суверенных стран.
Развязка
К марту 2011 года греческие облигации снова сбрасывались с большими скидками, а сбережения утекали из экономики. Но вместо того, чтобы повышать налоги на бизнес или подавлять печально известные уклонения со стороны олигархов, контролировавших обе ведущие политические партии, политики заморозили пенсии, повысили налог с продаж (НДС), который должны были платить потребители, и объявили график приватизационных распродаж.
Большая часть греков отказалась платить по более высоким расценкам за проезд или за другие общественные услуги. Полиция воздерживалась от принудительного взыскания, а профсоюзы государственного сектора объявили двухдневную общенациональную забастовку, которая вскоре переросла в движение против жёсткой экономии «Я не буду платить», подобное движениям «Захвати Уолл-стрит» и «Восстание возмущённых» в Испании.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, отказавшись от жёсткой позиции ЕЦБ, предложил семилетний мораторий на долг и настоял на том, чтобы держатели облигаций «постриглись», в качестве условия для дальнейшей помощи Греции. Он также попросил МВФ об участии в роли посредника. Его проверка того, как обстоят дела в действительности, вызвала панику на рынке, как и у многих видных экономистов, которые усмотрели нелогичность в требованиях кредиторов. Мартин Вольф объяснил невозможность погашения Грецией спасительного кредита на предложенных условиях: «Предположим, что процентные ставки по греческому долгосрочному долгу составляли 6 процентов вместо сегодняшних 16 процентов. Предположим также, что номинальный рост ВВП составит 4 процента.... даже для стабилизации долга правительство должно иметь первичный профицит (до уплаты процентов) в размере 3,2 процента ВВП. Если к 2040 году долг Греции упадёт до предела в 60 процентов ВВП по Маастрихтскому договору, то стране потребуется основной профицит в размере 6 процентов ВВП. Таким образом, каждый год греческий народ нужно было бы уговаривать и принуждать платить гораздо больше налогов, чем они получают от государственных расходов».
Газета «Уолл-стрит джорнал» также увидела математическую невозможность для Греции погасить свои долги, учитывая высокие процентные ставки и скидки по греческим государственным облигациям, и признала неизбежность дефолта. «Германия хотела бы, чтобы банки пролонгировали свои греческие долги. Но Греция, наверное, не сможет платить по ставкам 17 % в течение 10 лет. Поэтому, если банки пролонгируют долги по рыночным ставкам, конечный дефолт Греции гарантирован». Газета сообщила, что (по состоянию на 17 июня 2011 года) страхование от дефолта «стоило 182 долл. в год, а страхование пятилетнего греческого долга по 1000 долл. предполагает вероятность в 63 % от общей суммы убытков за пять лет».
Читать дальше