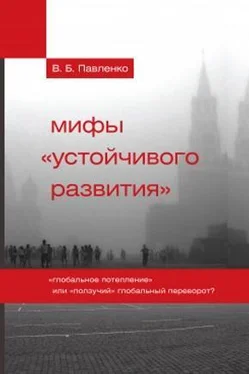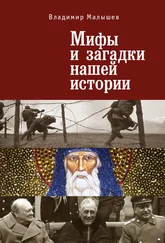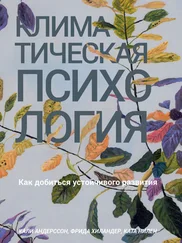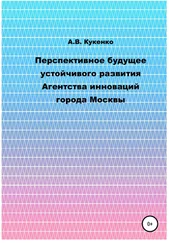Помимо институциональной стороны вопроса, у глобализации имеется и социально-психологическая сторона, на которую указывает В. В. Аверьянов:
«Весьма любопытную трактовку (глобализации. — Авт.) предложили М. Хардт и А. Негри в своей нашумевшей книге-бестселлере („Империя". — Авт.), в которой речь идет не о тех империях, которые были, а о той империи, которая грядет. У них получается, что сама транснациональная система, сама глобализация представляет собой итог развития всех империй. Эта мысль очень интересная, мне кажется, что наши националисты должны были бы как-то отреагировать на эту книгу <...>. „ Наиболее важный сдвиг, — пишут авторы „Империи", — происходит в самом человечестве, ибо с окончанием современности (эпохи Модерна. — Авт.) также наступает конец надежде обнаружить то, что могло бы определять личность как таковую. <...> Здесь и возникает вновь идея Империи, не как территории, не как образования, существующего в ясно очерченных, определенных масштабах времени и места, где есть народ и его история, а скорее как ткани онтологического измерения человека, которое тяготеет к тому, чтобы стать универсальным".
Эта сетевая, нетократическая империя порождена тем, что, на мой взгляд, (sic!) глобализация, упершись в пределы географии, перенаправлена вглубь и начинает перестраивать саму сущность человека, поскольку в физическом пространстве и в истории обществ и экономик у нее остается слишком мало пищи. Главным полем битвы становится теперь духовная культура и те границы (национальные, религиозные, языковые), которые сохранялись до сих пор как структура различия между традициями, многообразия образцов слова, поступка и даже бездействия и молчания. Глобализация (sic!) подступилась к той внутренней свободе, которая всегда оставалась интимной и потому неприступной для коллективных „левиафанов" стороной человеческого бытия, той свободе, что расцветала благодаря деспотии и вопреки эмансипации» 128 (выдел. в тексте. — Авт.).
Следующая группа терминов, отражающих различные категории «управления развитием», относится к идеологическому обеспечению этого процесса. Первый в этом списке — мультикультурализм, представляющий собой, как мы уже отмечали, политическое измерение другого хорошо известного нам термина — «толерантности», или терпимости.
«Ячейки» «нового мирового порядка» — обязательно «многоязыкие и многорелигиозные», о которых в начале 1990-х годов как о близкой перспективе писал Киссинджер, это не плюрализм в традиционном его понимании. А именно мультикультуральность — «вавилонское» смешение в рамках одного и того же социального пространства самых разнообразных культурных и иных сообществ. Как это выглядит сегодня?
«<...> Современная концепция мультикультурализма сформировалась в результате дискуссий между коммунитаристами (сторонниками опоры не на индивида, а на местные сообщества и НПО. — Авт.) и сторонниками концепций справедливости (социал-демократов и социалистов. — Авт.). Главная теоретическая и практическая проблема, связанная с мультикультурализмом, состоит не в том, насколько правомерны утверждения о множестве жизненных практик, а в том, (sic!) насколько глубоки различия, лежащие в основе этого множества. Плюрализация социокультурной жизни европейских обществ на основе западных культурных ценностей и рациональности зачастую рассматривается как (sic!) возможный общепризнанный стандарт и ценность в мировом масштабе» 129 (курс. — Авт.).
Для начала подчеркнем, что коммунитаризм и концепции справедливости служат глобалистам надежным инструментом подключения к строительству «нового мирового порядка» социалистов, социал-демократов и сторонников фрагментации и делегирования властных полномочий на локальный уровень муниципалитетов.
Ниже мы увидим, как коммунитарные тенденции порождают концепцию «еврорегионов», которая, в свою очередь, служит все тем же интересам установления «нового мирового порядка».
Но главное: различия в жизненных практиках — признаем это — оказались настолько серьезными, что мультикультурализм дал трещину и, по признанию упоминавшихся нами Меркель, Саркози и Кэмерона, дискредитировал себя не только «в мировом», но и в европейском масштабе. Идее «вселенского смешения» европейцы все больше предпочитают возврат назад — пока не к идее государства-нации или «имперскому подходу», до этого еще очень далеко, но, по крайней мере, к тому, что, с легкой руки американцев, называется «плавильным котлом» и предполагает наличие одной системообразующей этнической общности, растворяющей и подстраивающей под себя все остальные.
Читать дальше