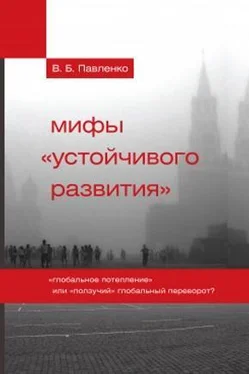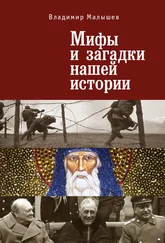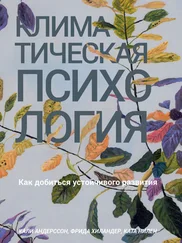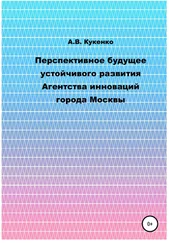Разнообразные экологические организации давно уже выросли их тех «детских штанишек», в которых они начинали свою деятельность в далекие 1960-е годы. Они получили глобальный статус и прописку в ООН, постоянные и надежные источники финансирования, а их лидеры превратились в респектабельных, широко известных политиков, успевших побывать у кормила власти далеко не в самых последних странах, имеющих прочные позиции в национальных парламентах и правительствах, международных и региональных организациях, в первую очередь европейских.
Никуда не уйдешь и от вхождения акционеров и топ-менеджеров перечисленных нами глобальных банков, половина из которых связана с Уолл-стритом, в систему ряда закрытых элитарных институтов Запада. Дружные и скоординированные действия банкиров не могут не наводить на мысль о неслучайном характере их интереса к экологии, ибо перетекание в тот или иной проект крупных денег, как правило, свидетельствует и о проявляемом к нему политическом интересе и может служить признаком существования соответствующих проектов и даже решений.
Позволим себе высказать предположение, что именно здесь следует искать разгадку вопросов, которые на официальном уровне ни перед мировым сообществом, ни перед общественным мнением отдельных стран, не рискуя репутацией, не берется ставить почти никто. А именно: почему теория глобального потепления содержит все признаки целенаправленной агитационно-пропагандистской кампании? Откуда вокруг нее столько шума и лихорадочной возни, столько сомнительных, «скользких», не вызывающих доверия, а порой и просто отталкивающих персонажей и фигурантов?
Почему, не имея не только однозначной, но и по-настоящему серьезной поддержки в научной среде, эта теория, тем не менее, не подвергается сомнению в сфере политики? Почему так болезненно воспринимается любое «нелояльное» прикосновение к этой теме и всячески дискредитируются, подвергаясь шельмованию, ее критики?
И, наконец, почему с экологией неизменно пытаются связать практически все остальные вопросы глобальной повестки дня: социальные, экономические, политические? С какой радости именно она, наряду разве что с разоруженческой проблематикой, становится «альфой и омегой» любых международных кампаний, проектов, инициатив?
Не вторгаясь в сферу специальных климатических исследований, которые находятся в исключительной компетенции профессионалов, отметим еще одну деталь. Наиболее радикальные, напористые, политизированные и шумные сторонники теории глобального потепления неизменно делают особый упор на его антропогенных причинах, то есть на его якобы обусловленности промышленной деятельностью человека.
С разной степенью достоверности приводимых доказательств, а иногда и просто голословно они утверждают, что положительная динамика температурных изменений почти исключительно обусловлена воздействием на окружающую среду экономики. Остальным факторам, которые приводятся другими разделяющими эту теорию специалистами, внимания почти не уделяется. Широкая общественность практически не осведомлена, например, о гипотезах, рассматривающих в качестве источника предполагаемого глобального потепления изменение солнечной активности или угла вращения земной оси, влияние Мирового океана и вулканической деятельности. Или выявленной Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) необъяснимой деградации термосферы (одного из важнейших слоев атмосферы) и т. д.
В лучшем случае эти научные версии, ставящие во главу угла естественный характер климатических изменений, отметаются с помощью аргумента о беспрецедентной для обычных природных процессов скорости их нарастания. В худшем же они просто высмеиваются — в полном соответствии с позитивистской практикой современного постмодернизма, проникшего, разумеется, и в науку.
При этом в разряд самых «вредных» неизменно попадают наиболее важные для экономической самостоятельности и суверенитета государств отрасли реального сектора экономики — энергетика, машиностроение, металлургия. Под предлогом рассматриваемой теории глобального потепления нам последовательно и настойчиво вбивают в голову, что «спасение» человечества — исключительно в некоем «инновационном» развитии, в центр которого ставятся стабильно лидирующие в его списке информационные, коммуникационные, химические и биологические технологии. Между тем ни одна из этих отраслей, противопоставляемых реальному сектору, еще не доказала не только собственной безальтернативности для будущего планеты, но и элементарной прибыльности, если говорить о рыночных критериях, которые, как мы понимаем, сами тоже отнюдь не бесспорны.
Читать дальше