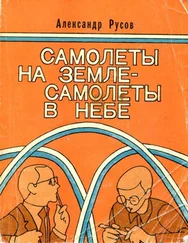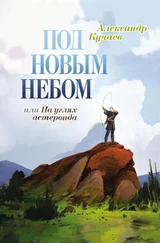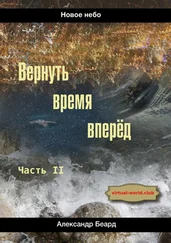Поэтому, отвечая непосредственно на Ваш вопрос: да, конечно же, корпорации (далеко не только российские) имеют определенное в идение будущности России и выстраивают определенные стратегии, они обладают для этого соответствующими ресурсами: финансовыми, кадровыми, организационными. Эти стратегии носят подчас конфликтный характер. Хотя возможны и гармоничные их сопряженности, в том числе и с политическим истеблишментом — то, что можно назвать когерентной стратегией России, которая, тем не менее, в 2003 году так и не стала предметом профессиональной деятельности внутри страны. Национальная "стратегия" по прежнему строится во многом формальным (бюрократическим) или рефлекторным (ad hoc) образом, редко встречаются субъекты социального действия, серьезно заинтересованных в выстраивании алгоритма действия на период дольше, чем… да, пожалуй что, два-три года, хотя естественней было бы сказать: четыре, все-таки электоральный цикл… Но и четырехлетний цикл было бы трудно назвать национальной стратегией.
— Мы говорим о конфликтности. Но если взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и подумать над вопросом, в чем основа кредита доверия АК в России, к примеру, когда речь идет об умных гуманитарных технологах, о классе "людей воздуха"?
— Пожалуй, я вижу процесс трансляции властного, политического текста несколько иначе. Долгое время живя в неестественных условиях, в искусственном, иллюзорном мире, российская элита в значительной мере утратила чувство реальности. Реальность, в которой обитает человек, не носит благого характера (я абстрагируюсь от метафизического анализа этой ситуации: почему природа человека испорчена, почему мир плохо устроен, беру лишь данность). Одна небольшая иллюстрация: в политике существует понятие "дьявольской альтернативы", т. е. ситуации, когда человеку у руля власти приходится выбирать между плохим и ужасным. Вот тут и ощущается во всей экзистенциальной полноте вкус реальности. Иначе говоря, кошмар ответственного политика в том, что он — причем не так уж редко — выбирает не между хорошим и плохим, а между плохим и ужасным. Такой вот выбор и производимый к тому же подчас в весьма сжатые сроки.
Жизнь в мире, наполненном критическими и потенциально катастрофическими ситуациями, заметно уплощает политический процесс. Политику сплошь и рядом приходится оперировать прагматичными, мобилизационными категориями. Схема, когда общество создает кредит доверия, делегирует его какой-то партии, которая реализует затем заявленную электоратом волю, — в достаточной мере фиктивна. АК — это субъект новой реальности, и эта реальность, как всякий системный процесс, время которого пришло, разворачивается независимо от чьих-то локальных интересов. Мы наблюдаем сейчас "вершину айсберга", выход на поверхность процесса, генезис которого прослеживается на протяжении столетий.
Общество меняется. Наши представления об обществе меняются. Появляются новые социальные горизонты. Мы привыкли, к примеру, прочитывать карту мира, как административно-политическую, двумерную плоскость, которая разделена на Бельгии, Голландии, США, Россию и т. д. В то же время опыт начала XXI века говорит, что дела в реальности обстоят каким-то другим образом. Например, возникшее недавно понятие "астероидной группы": образования, в котором слипаются части элитных организованностей разных национальных организмов, в свою очередь представляющих расколотые или надколотые планеты. Иначе говоря, системообразующим фактором этих процессов является не национальное государство, а иные магниты, иные гравитационные центры, которые оказываются притягательнее.
Мы получаем новую геометрию власти, иные траектории политики. И вся эта деятельная среда не обрела пока соответствующей формализации — у нас дефицит лексики, не то что категориального аппарата в данной области. Амбициозные корпорации… когнитивный домен… астероидная группа… как-то экзотично все это звучит! Самый нейтральный термин — новая организованность. И еще для современной политологии характерно пристрастие к приставкам "нео", "анти", "пост", фиксирующим присутствие новизны, но мало что говорящим о ее сущности. Поэтому, мне кажется, сейчас актуальна не проблема кредита доверия, который передается игрокам на социальном поле, а, скорее, понимание того, что же из себя представляет это современное социальное поле, какие игроки и в какие игры на нем играют. Общество, которое отказывается от добросовестного картографирования новой реальности, занимает позицию, которое в психологии называется эскапизмом— уподобляясь в этом страусу, заклиная, кодируя признаки серьезного кризиса или катастрофы, определяя их фиксацию как "алармизм". Но существо, избегающее "принятия неприятностей", со временем исчезает из бытия.
Читать дальше