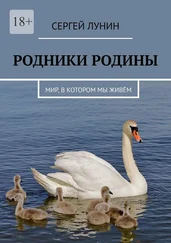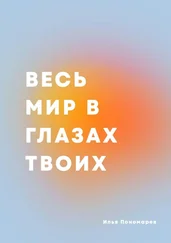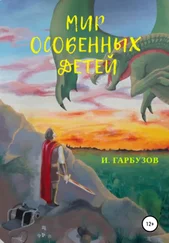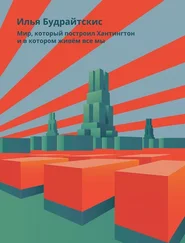Вероятно, это именно та причина, по которой Толстой не сможет быть никогда полностью идеологически адаптирован современным российским государством как один из великих писателей, составивших славу «исторической России». Стирая границу между искусством и этикой, Толстой остаётся вечным напоминанием о нечистой совести правящего класса. Той самой, которая в начале романа «Воскресение» заставляет аристократа Неклюдова, заседающего в суде присяжных, неожиданно почувствовать себя не судьёй, но подсудимым. Моральная философия Ильина, изложенная в «Сопротивлении злу силой», не просто избавляет господствующих от переживания собственной вины, но превращает отсутствие сострадания в возвышенную необходимость и гражданский долг.
О пассивном и активном консерватизме Пассивный консерватизм и верность настоящему
В своём известном эссе Самуэль Хантингтон находил ироничным [36], что консерватизм, как идеология, постоянно апеллирующая к истории и традициям, сама не сводится к каким-либо конкретным историческим основаниям и традиции. Рассматривая прошлое в качестве фундамента настоящего, консерватизм принимает это прошлое целиком, во всём множестве его внутренних противоречий и разрывов. Прошлое волнует консервативную мысль не в виде завершённого идеального образа, противопоставленного современности, но как продолжающийся опыт, через который переживается полнота и ценность текущего момента. Консерватизм опирается на историю лишь в её динамической связи с настоящим, – историю, которая стала «актуальной и ощутимой» [37]. Именно эта одержимость настоящим сообщает консерватизму предельную анти-метафизичность, враждебность любым нормативным доктринам и утопиям [38]. Консерватизм скептичен ко всему, что претендует на выход за пределы данного. Такой скепсис, в свою очередь, обращается догматической приверженностью данному – консерватизм «не показывает как должно быть, но лишь как быть не должно» [39].
Однако образ настоящего, на защиту которого встаёт консервативная политика, подвержен постоянным изменениям. Следуя за его трансформациями, консерватизм постоянно меняется сам, одновременно сохраняя верность своей основной интуиции. Его содержание – то, что нуждается в защите и сохранении – целиком определяется конкретными обстоятельствами. Подобный «ситуационный» консерватизм Хантингтон противопоставлял консерватизму «реакционному», который пытается обнаружить в прошлом завершённый общественный идеал (и в этом смысле сближается с радикальными течениями с их абстрактными образами будущего). «Ситуационный» консерватизм, с его приверженностью настоящему и привычному, может, однако, оказаться открытым и восприимчивым к политике, изначально противоположной консервативным ценностям. Например, либеральная демократия или социальное государство для консерватора могут обрести качество «реального», которое нуждается в защите от радикальных перемен. В этом смысле их ценность определяется исключительно их укоренённостью в истории, легитимности в качестве традиции.
Консервативная позиция, таким образом, приобретает созерцательные, эстетические и антиполитические черты. Она принимает историческую данность как своего рода кантианскую «целесообразность без цели», прекрасную в своей завершённости и неподвижности. Подобная совершенная неподвижность, равновесие («эквилибруим») со времён де Местра оставалось консервативным идеалом внутренней и внешней политики. В международных отношениях ему соответствовала традиция реализма, для которой глобальная стабильность утверждалась не на основе универсальных начал общего блага, но благодаря сложной архитектуре баланса национальных интересов [40]. В подобном видении мира каждая из его частей гомогенна, равна самой себе, а её внутреннее состоя ние определяется партикулярными верованиями и обычаями. Политика здесь полностью поглощается искусством поддержания равновесия сил, которым владеют лишь немногие виртуозы дипломатии. Их задача – охранять хрупкое сосуществование различий от вторжения химер равенства и утопий субстанционального «вечного мира», в котором абстрактный разум должен утвердить окончательное господство над произвольной природой. Идея несводимости к целому лежит в основании «Столкновения цивилизаций» Сэмюэля Хантингтона, в котором невозможно найти какие-либо чёткие дефиниции самого понятия «цивилизации», как и принципа, по которому границы между этими «цивилизациями» проведены именно таким образом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
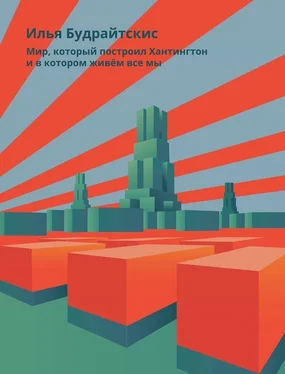
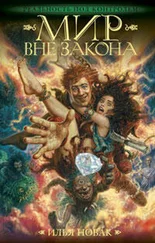


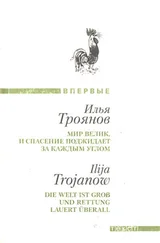
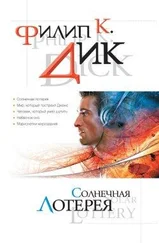
![Илья Игоревич - Не этот Мир [СИ]](/books/424369/ilya-igorevich-ne-etot-mir-si-thumb.webp)