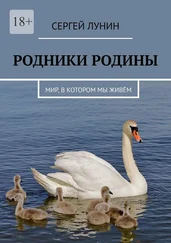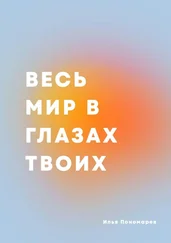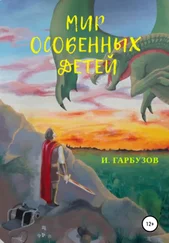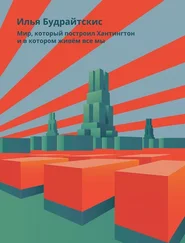Рассредоточенные в пространстве пропаганды, цитаты Ильина складываются в образ сурового и дидактичного государственника, который верил в органическое превосходство общих интересов над частными, особый путь России и национальное единство перед лицом внешних угроз. Однако фигура Ильина, непримиримого борца с большевизмом и одного из ключевых идеологов Белой эмиграции, входит в явное смысловое противоречие с мотивом «национального примирения» советского и антисоветского, который стал определяющим в исторической политике российской власти в столетний юбилей революции. Неслучайно в последнее время Путин в качестве источника цитат предпочитал Ильину более нейтральных Льва Гумилёва или Алексея Лосева. Тем более опрометчиво было бы провозглашать наследие Ильина главным ресурсом российской официальной идеологии (как это делает, например, Тимоти Снайдер [26]).
Моё предположение состоит в том, что Ильин важен для российской правящей элиты в первую очередь не как политический, но как моральный философ. Ильин в качестве источника патриотических цитат для стенгазет путинских ведомств вторичен, но уникален как автор самой последовательной этической легитимации существующего сегодня в России порядка вещей. Согласно учению Ильина, к субстанциальному Добру, божественной «силе очевидности», причастен, вне зависимости от своих личных мотивов, каждый элемент этой системы – тюремный надзиратель, полицейский, прокурор или генерал ФСБ. Репрессии и произвол для каждого из них сегодня оправдываются не через прогрессистское понимание неумолимой логики истории (как это было во времена сталинского террора), но представляют циклическое воспроизводство вечного морального долга воина перед лицом наступающего зла. И так как сегодня силовики являются принципиальной составляющей современной политической и экономической власти в России, их корпоративная мораль в значительной степени оккупирует место здравого смысла для общества, выстраивая подобие практики культурной гегемонии.
Эта конструкция, конечно, не предполагает, что российские бюрократы и полицейские должны постоянно перечитывать тексты Ивана Ильина. Скорее, моральная концепция Ильина создаёт стиль мысли, фрагменты которого, отрываясь от непосредственного источника, воспроизводятся в их сознании как оправдание и искупление непосредственных действий. Философ насилия в своей эпохе
В 1925 году Иван Ильин, проживавший в Германии (после высылки на знаменитом «философском пароходе»), публикует книгу «О сопротивлении злу силой» [27]. Этот текст представляет собой завершённую моральную философию авторитарного православного государства, в котором практически достигается единство духовного и политического. Такое единство для Ильина является трагическим, так как государство, являясь «органом Добра», не только не тождественно этому Добру, но и требует постоянного применения силы, пыток и казней. Это трагическое противоречие определяет и личный путь православного воина, и общее содержание эпохи.
Ильин создаёт свою версию оправдания насилия в десятилетие, когда борьба красных и белых, революции и контрреволюции, покидает национальные границы России и становится глобальной – «европейской гражданской вой ной», согласно известному определению Эрнста Нольте [28]. Сторона Ильина в этой вой не чётко определена – это «белые воины», носители «православной рыцарской традиции», на которых возложена тяжесть государственной необходимости в эпоху, когда само государство и определяемое им единство общества утеряны. Эта утрата является, прежде всего, результатом нравственного упадка, основа которого – в «моральном гедонизме» русского образованного класса, забвения цели ради чистоты средств. Прежние законы, которые прежде обеспечивали превосходство Добра над Злом, разрушены, и в свои права теперь вступает стоящая выше закона сокрушающая сила Любви.
Задача, которая стоит перед этой силой – не только государственно- политическая, но и духовная: победа истинного христианства над мнимым, пацифистским, безвольным, сознательно или неосознанно потворствующим Злу. Именно поэтому в центре критики Ильина находится учение Льва Толстого о непротивлении злу силой. Толстовство, казалось бы утратившее свои позиции к середине 1920-х годов, представляет опасность в своей сути – как идея нравственной автономии личности. Эта идея превращается в книге Ильина фактически в синоним индивидуалистической «негативной свободы», принцип либеральной демократии, бессильный перед наступающим злом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
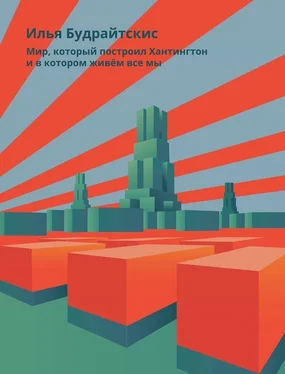
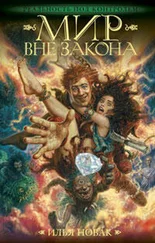


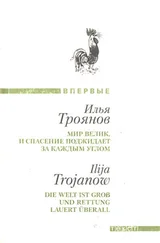
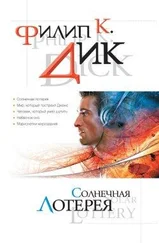
![Илья Игоревич - Не этот Мир [СИ]](/books/424369/ilya-igorevich-ne-etot-mir-si-thumb.webp)