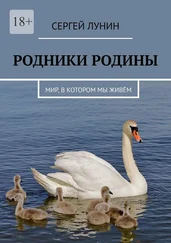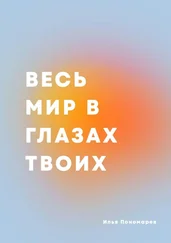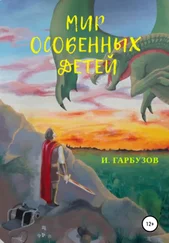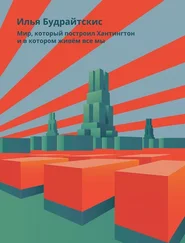1 ...8 9 10 12 13 14 ...42 Катастрофы бывают полезны
Для классической либеральной мысли, с её утилитарным подходом к морали, такое противопоставление всегда выглядело как недопустимое и опасное. Например, Исайя Берлин относил Канта (хотя и с оговорками), вместе с Гегелем и Марксом, к сторонникам «позитивной свободы» (то есть оправдания фактической несвободы), предполагающей разделение идеала и действительности, рассудочного и нравственного [13]. Если «общее благо» – миф, то благо индивидуальное – единственный эмпирически доказуемый факт. Это моральное убеждение, основанное на непосредственном опыте, в большей степени соответствует буржуазии, «людям дела», чем интеллигенции.
Тезис о тождестве пользы и добродетели ещё для Макса Вебера был центральным связующим моментом протестантской этики и капиталистического накопления. Страсть к обогащению по мере буржуазной рационализации мира превращается в интерес, удовлетворяемый через взаимовыгодную сделку с интересом другого. Конфликт между ними при этом не исчезает, но постоянно стремится к уменьшению, так как все заинтересованные стороны приходят к разумным выводам о том, что обман и насилие, в конечном счёте, оставляют всех в проигрыше. Нравственному человеку легче заключать договоры и брать кредит, что, кроме того, находится в полном соответствии с чистотой помыслов и совести. Обратной стороной такой моральной рационализации средств, однако, является иррациональность в отношении цели. На пути к успеху (а значит, и спасению) буржуазного субъекта не оставляет переживание тайны Провидения. В жизненном опыте «нам даны лишь… фрагменты вечной истины, всё остальное, и в частности смысл нашей индивидуальной судьбы, покрыто таинственным мраком» [14]. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что даже самое нравственное поведение и добросовестный труд не будут вознаграждены – хотя наша добродетельная жизнь, обращённая к накоплению, всё же даёт нам надежду. Сам момент обнаружения этой неизвестной переменной ( fortuna ) в моральном поступке, как полагает Алистер Макинтайр [15], был обозначен ещё Макиавелли и затем превратился в определяющую формулу морального конфликта Нового времени.
Проблема «моральной удачи» ( moral luck ) [16]состоит в том, что, вопреки позиции Канта, обстоятельства, о которых мы не имеем представления, могут оказать решающее воздействие на моральное значение нашего поступка. Даже если мы руководствуемся «моральным императивом», нет никаких гарантий того, что всё внешнее из него полностью исключено, так как уникальное сочетание обстоятельств прошлого, настоящего и будущего всегда оставляет место для случайности, которая может радикальным образом повлиять на само содержание нашего морального действия (которое в итоге может оказаться прямо аморальным).
Получается, что моральный абсолют всегда остаётся скрытым, но мы неуклонно движемся к нему по пути капиталистического прогресса, который одновременно является и прогрессом совершенствования морали. Однако в каждый из моментов такого поступательного движения у нас нет полной уверенности в том, что наши действия являются безусловно моральными. Подлинный нравственный смысл этих действий остаётся скрытым, а «фрагменты истины» лишь постепенно раскрываются во времени (так как в обществе всё же понемногу становится меньше лжи и насилия). Это значит, что наше индивидуальное безупречное нравственное поведение может в итоге оказаться слагаемым «моральной катастрофы», переживаемой современным нам обществом.
Таким образом, состояние «моральной катастрофы» никогда не может быть безошибочно диагностировано современниками. Как правило, мы проживаем катастрофу спокойно, без намёка на внутренний конфликт с собой, а подлинное катастрофическое содержание нашего времени становится понятно только с перспективы последующего морального совершенствования общих ценностных установок. Чаще всего, мы просто спокойно переживаем катастрофы, совсем о них не подозревая. Совершая моральные поступки в настоящем, нам, в самом деле, стоит лишь полагаться на fortuna , чтобы впоследствии, через пару столетий, не выяснилось, что мы находились во власти самообмана и посредством своего нравственного поведения стали соучастниками чудовищных преступлений. Так, римские рабовладельцы, средневековые крестоносцы или колонизаторы Нового времени, с чистой совестью умерли во имя вечных ценностей Империи, Христа или Цивилизации, совсем не подозревая о том, что вся их жизнь представляла безостановочное нравственное падение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
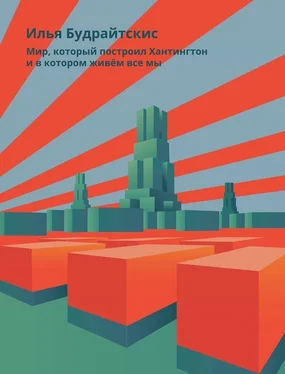
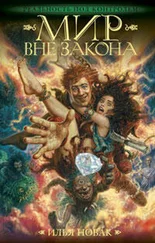


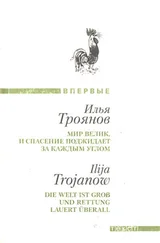
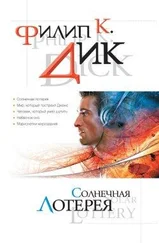
![Илья Игоревич - Не этот Мир [СИ]](/books/424369/ilya-igorevich-ne-etot-mir-si-thumb.webp)