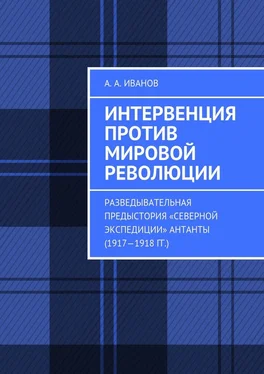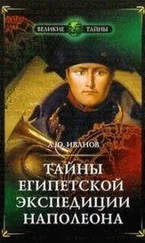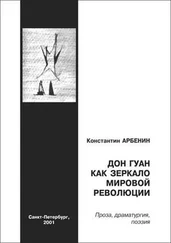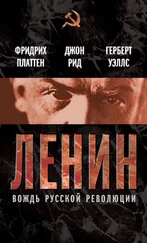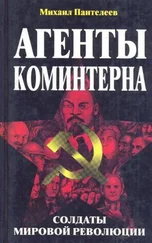Стоит оговориться, что с точки зрения общей теории в ходе революционных гражданских войн борьба, как правило, ведется между представителями сил «революции» и «контрреволюции» (хотя исследователи-марксисты не отрицали возможность борьбы между «насквозь контрреволюционными группировками» 76 76 Спиро Д. Контрреволюция в контрреволюции. Тирана, 1985. С. 4.
). Тем не менее, применительно к российским событиям 1918—1920 годов подобная схема была бы крайним упрощением. Дело в том, что военно-политический конфликт в России, без сомнения, был мультисубъектным и потому несводим к элементарной бинарной оппозиции – в нем принимали участие различные силы, имевшие отличные друг от друга цели, лозунги и пользовавшиеся поддержкой разных слоев общества.
Поскольку антибольшевистское движение отличалось разрозненностью и политической пестротой, степень его контрреволюционности нуждается в уточнении, а для решения этой задачи необходимо, прежде всего, определиться с ее критериями.
Например, для большевиков свидетельством контрреволюционности было стремление к захвату власти в стране и отстранению от нее сторонников В. И. Ленина, независимо от того, какие цели ставились их противниками в отношении судьбы революционного наследия 1917—1918 годов. В подтверждение этих слов стоит привести выдержку из постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), опубликованного в газете «Правда» в январе 1918 года: «всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема, как контрреволюционное действие» 77 77 Правда. 1918. 4 января.
. Кроме того, в циркуляре Кассационного отдела ВЦИК от 6 ноября 1918 года контрреволюционными признавались абсолютно «всякие выступления, независимо от поводов, по которым они возникли, против Советов, или их исполнительных комитетов, или отдельных советских учреждений… если они сопровождались разгромами или иными насильственными действиями или хотя бы угрозами таковых по отношению к деятельности или деятелям этих органов» 78 78 Цит. по: Герцензон А. А., Грингауз Ш. С., Дурманов Н. Д., Исаев М. М., Утевский Б. С. История советского уголовного права. М., 1948. С. 188.
.
При таком подходе вполне понятно, почему большевик Г. Е. Зиновьев причислил к лагерю контрреволюции и народного социалиста Н. В. Чайковского, и эсера Б. В. Савинкова, и даже либерала П. Н. Милюкова, хотя они принимали деятельное участие в развитии революционного процесса в России.
Однако если вдуматься, описанная точка зрения предстает в корне неверной – ведь любая революция не является одномоментным событием, связанным с элементарной сменой действующей власти (хотя, например, П. Колверт считал именно так 79 79 См.: Calvert P. A Study of Revolution. Oxford, 1970. P. VII.
) – это процесс (порой довольно длительный), в ходе которого происходит трансформация внутреннего устройства страны. Отсюда, контрреволюция – это не столько борьба с пришедшей к власти политической силой, сколько общее противодействие процессу изменения сложившегося уклада жизни 80 80 См.: Tilly C. The Analysis of a Counter-Revolution. // History and Theory. 1963. Vol. 3. №1. P. 30.
, стремление к возврату к дореволюционным порядкам и ценностям.
Что касается русской части антибольшевистского движения, то, по признанию самих его участников, за годы Гражданской войны оно (в отличие от противников) не смогло создать единую идеологическую систему, поскольку было составлено из разнородных политических группировок. Русское офицерство и даже интеллигенция часто абстрагировались от рассуждений о послевоенном политическом устройстве страны, полагая это задачей будущих «правомочных органов народной воли» 81 81 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Том 3. Париж, 1922. С. 263.; Иностранцев М. А. История, истина и тенденция. Прага, 1933. С. 55.
. Следовательно, ни о какой априорной контрреволюционности правительств А. В. Колчака, Е. Г. Миллера, А. И. Деникина и других лидеров «белых» не может быть и речи.
То же самое касается и иностранных сил, принимавших участие в антибольшевистской борьбе. Даже беглый взгляд на политические заявления лидеров стран, направивших свои войска на помощь «белым», не позволяет отнести всех их без исключения к лагерю контрреволюции. Так, если по замечанию А. Ф. Керенского, «курс Англии и Франции в русских делах решительно направлен в сторону консервативно-монархическую» 82 82 Керенский А. Ф. Переговоры и соглашения с представителями союзников в России здесь, в Париже и Лондоне, никакого значения не имеют. // Россия антибольшевистская: из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 332.
, то американский Президент В. Вильсон прямо заявлял британским союзникам, что любые их совместные действия в России «не должны иметь своей конечной целью реставрацию старого режима или иное препятствование политической свободе русского народа» 83 83 National Archive of United States (NAUS). RG120. File 246. P. 12—13.
. Это подводит нас к самой проблеме участия зарубежных воинских формирований во внутреннем вооруженном конфликте на российской территории.
Читать дальше