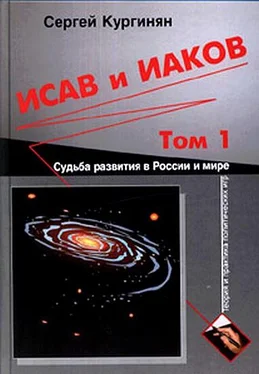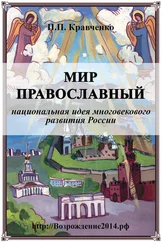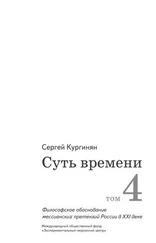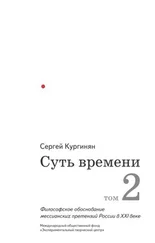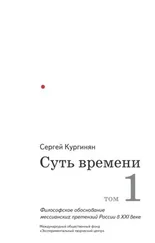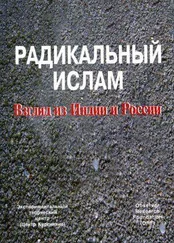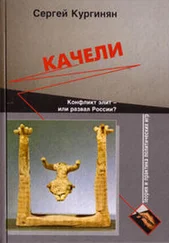Любой конкретный автор может выступать и как личность, и как представитель некой общности — класса, группы, секты, другого социального сообщества. Причем задача определения того, когда именно доминирует в высказывании личностное начало, а когда начало коллективное, вполне решаема современными средствами.
Помимо него, есть нечто социально ситуативное. Говорится же ведь: «Только деньги — и ничего личного». Изымем из этого высказывания слово «деньги». Заменим слово «деньги» как слишком конкретное абстрактным «это». Разве не приходилось вам сталкиваться с ситуациями, в которых ваш собеседник, очень явным и недвусмысленным образом, адресуется к вам по принципу: «Только это — и ничего личного». В роли «этого» может выступать классовое, кастовое, групповое… Мне так даже приходилось сталкиваться со случаями, когда почти что сектантское… Но всегда исключительно коллективное.
Как я много раз уже говорил, рассмотрение Евгения Онегина только как представителя столичного дворянства, а Татьяны Лариной только как представительницы дворянства провинциального — это недопустимая вульгаризация Пушкина, раскрывающего в своем великом произведении очень тонкие и сугубо личностные моменты.
Но игнорирование того, что и у Евгения Онегина, и у Татьяны Лариной есть социальный и культурный генезис и вытекающие из него поведенческие рамки, критерии должного и недолжного и так далее, — это тоже вульгаризация.
Когда социальное достигает определенных концентраций, то ты физически ощущаешь, что с тобой разговаривает не человек, а представитель сущности, являющийся рупором этой сущности. В частности, это измеряется частотностью и страстностью апелляций к некоей коллективности: «НАС это не устраивает! Вы НАМ мешаете! Как НАМ с вами быть!» и так далее.
При этом всегда остается неясным, почему выкрикивающая это личность начинает апеллировать к коллективности и что это за коллективность. Вроде личность эта — не государь-император, чтобы говорить о себе «Мы», не представитель очерченного социального сообщества (Кремля, какой-нибудь оппозиционной партии, банды, корпорации и так далее)… А что можно сказать о неочерченной сущности, кроме того, что она сущность? И что она откликается именно как сущность даже тогда, когда от ее имени и по ее поручению говорит кто-то, все время апеллирующий к им не определяемой, но очевидной для него коллективности?
Существует и нечто еще более иррациональное, трудно определяемое, но вполне реальное. Что именно? Ответить легче всего (да и короче всего, что немаловажно), приведя конкретный и более чем внятный пример. В противном случае пришлось бы втягиваться в долгие и уводящие в сторону аналитические рефлексии.
Когда-то, году этак в 1980-м, мне, начинающему тогда авангардному режиссеру-неформалу, был отрекомендован один журналист, который должен был написать статью о моем спектакле и коллективе. Отрекомендован он был близкими друзьями. Я, соответственно, охотно говорил с этим журналистом на все возможные темы. В числе этих тем почему-то оказалось творчество Александра Солженицына.
Никогда не относясь плохо к Солженицыну как к художнику, высоко ценя в художественном плане его раннее творчество, я имел свою — очень далекую от официально принятой тогда, но не апологетическую — позицию по отношению к творчеству, в котором политическое (а в общем-то, публицистическое начало) уже явно преобладало над художественным.
Этими своими представлениями об эволюции художника и не более я поделился с журналистом, не зная, что он является фанатическим поклонником Солженицына, изгнанным в периферийное издание за верность Александру Исаевичу. Мой собеседник ничего тогда мне не ответил. Он не возразил мне, не выразил гнева по поводу моей некоплиментарности по отношению к великому человеку.
Он просто сочинил в виде статьи о моем театре и обо мне лично блестяще продуманный донос. Разумеется, не донос о том, что я сложно отношусь к Солженицыну. Нет, это был комплексный донос, очень непорядочный и недобросовестный даже по отношению к нормам доносительства той эпохи, в котором мастерски было показано и доказано, что театр надо закрыть как вредный для дела коммунизма и социализма, а меня, как минимум, отлучить от творческо-идеологической деятельности, именуемой режиссура. А как максимум — изолировать от общества, триумфально шествующего в коммунизм, чему я якобы всячески препятствую.
Читать дальше