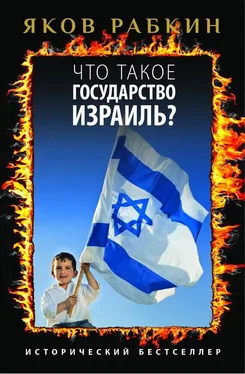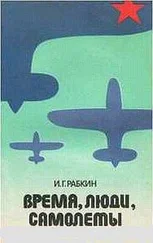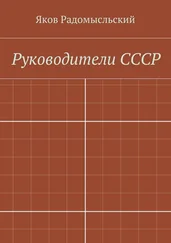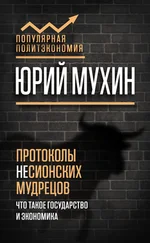Некоторые просто считают, что разговорный язык страны следует называть «израильским». Такое понимание нового иврита является сугубо постсионистским, так как в нем отсутствует связь между языком страны и ее библейским прошлым. Однако в таком случае израильский язык, как и государство, должен принадлежать не евреям всего мира, а тем, кто живет в Израиле, вне зависимости от этноса или вероисповедания.
Ранние подвижники-сионисты относились к Земле Израиля примерно так же, как русские романтики, боготворившие Россию-матушку. Десятки русских песен, переведенных на иврит в первые десятилетия сионистского заселения страны, должны были внушить новоприбывшим любовь к Родине («моледет»). Как подобает матери, Родина готова принять в свой дом даже блудных сыновей, и любовь ее естественна, безгранична и безусловна. Материнские объятия – это последнее прибежище в случае беды, и Государство Израиль часто представляют как последнюю гарантию безопасности евреев. Если Земля Израиля в Талмуде в одном случае и описывается как мать [182], в рамках традиции эта метафора остается привязанной к исходному контексту, не имеющему ничего общего с заселением Земли Израиля [183].
Однако для иммигрантов овладение ивритом стало признаком преображения в «нового еврея». Причина такого отказа от своих корней и родного языка – разновидность известного явления самоненависти, присущей сионистской идеологии с самого рождения. Даже для защитников нового разговорного языка подобный разрыв был совсем не простым. Один из них с грустью заметил: «…когда мы говорили на идише, нас любили такими, какие мы есть» [184].
Воспитание нового человека
«У нас есть два пути: либо полная переоценка ценностей каждой стороны нашей жизни – и национальное возрождение, либо продолжение знакомого, но тупикового пути [жизни в диаспоре] – и гибель нации… Пришло время принять решение. Сумейте выбрать путь жизни!» [185]
С такими словами в 1915 году обратился директор Ивритской гимназии («А-Гимнасия а-иврит») в Тель-Авиве к первым выпускникам.
Сионисты – не первые евреи, поселившиеся в Палестине. Когда в стране появились первые поселенцы-сионисты, в Иерусалиме и нескольких других городах существовали кварталы религиозных евреев, сообщество которых носило название «Старый ишув*» (то есть «поселение», или «община»). Старая община существовала в основном за счет благотворительности со стороны евреев других стран. В середине XIX века зарубежные благодетели позволили евреям переселиться из старых кварталов в современные районы с лучшими условиями быта. Один из таких районов был назван «Меа Шеарим» (по-русски «сторица», хотя это название часто ошибочно переводят, как «Сто врат») – по стиху, в котором описывается урожай Исаака, который «сеял… в земле той, и получил в тот год во сто крат: и благословил его Господь» (Бытие, 26:12).
В то время как арабы долгое время с интересом рассматривали деловые возможности, которые сулил приток сионистов, собственно евреев Палестины прибытие безбожников из России привело в ужас. Легендарной «еврейской солидарности», ставшей притчей во языцех для антисемитов, в этом случае отнюдь не наблюдалось. Напротив, верные особым обязательствам, которые накладывает на евреев проживание в Земле Израиля (см. главу 2), старожилы беспощадно осуждали новоприбывших: «Они не следуют путем Торы и не проникнуты богобоязненностью… их цель – не приблизить Избавление, а отдалить его» [186]. Но поселенцы не проявляли никакой тяги к раскаянию; более того, они стали пропагандировать идеи сионизма среди молодежи старой общины. Так началось столкновение сионизма с иудейством на Святой земле – конфликт, который не исчерпал себя и поныне, более ста лет спустя.
Когда в начале 1880-х годов члены предсионистской группы «Ховевей Цион», спасаясь от погромов, прокатившихся по Российской империи, перебрались в Палестину, некоторые раввины выступили в поддержку новоприбывших. Но вскоре их энтузиазм сменился разочарованием, и раввины стали предупреждать евреев об опасности этой затеи.
Созданное членами этой группы в 1882 году поселение Ришон ле-Цион, расположенное на прибрежной равнине, – яркий пример начала разрыва с традиционными еврейскими общинами Палестины. Это поселение возглавляли приверженцы Хаскалы, поддерживавшие связи не с правоверными евреями Иерусалима и Цфата, а с активистами из Яффы. В других поселениях, таких как Петах Тиква, противостояние было поначалу не столь резким: поселенцы получали помощь благодаря «халуке» (распределению средств, собранных в рамках благотворительности среди религиозных евреев). Однако наряду с традиционным еврейским воспитанием там практиковалось и сионистское, то есть атеистическое, воспитание, которое вскоре взяло верх.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу