1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 А нужно вам сказать, что при кафедре судебной медицины существует небольшой музей, где хранятся изъятые в своё время у «романтиков большой дороги» ножи, кастеты, пистолеты. А по тем временам хранился и ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина) – автомат времён недавно закончившейся Великой Отечественной войны. При нём же был и полный патронов круглый диск. Зеленгуров размышлял не слишком долго. Он открыл шкаф, где хранился ППШ, и уже с автоматом вернулся к окну. Длинная автоматная очередь рассветила предрассветный полумрак и прошла над головами цыган. Всё стихло и замерло. И в этой тишине раздался голос Зеленгурова: «Граждане цыгане, прошу вас по-хорошему разойтись. Ещё одного предупреждения не будет. Если приблизитесь к кафедре, вторая очередь пройдёт на метр ниже». Ворча и оглядываясь, цыгане покинули поле боя.
Евгений Евгеньевич завершил свою историю словами: «С тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года хлороформ запрещён в качестве хирургического наркоза. Дело в том, что при чрезмерной дозе хлороформа могли наступить паралич дыхательного центра и остановка дыхания. А самые опасные осложнения во время наркоза наблюдались со стороны сердечной деятельности, вплоть до остановки сердца».
Почти на каждой кафедре нам говорили о творческом, индивидуальном подходе к лечению пациентов. Препарат, который подходит одному пациенту, другому с таким же диагнозом может не подойти; то же касается и дозы препарата, и частоты приёма, и различных физпроцедур. Подход к пациенту должен быть исключительно индивидуальным. «Лечите не болезнь, а больного человека!» – говорили нам.
Забегая вперёд, скажу, что в клинике, где я начал работать, мне сказали: «Забудьте, чему вас учили в школе. Пациентов будете лечить по протоколу, никакой отсебятины!» И давались стандартные рецепты лечения болезней, а не больных.
Ну а пока мы с моим добрым товарищем Тарасом проходили курс интернатуры по неврологии. Нужно сказать, что поначалу Тарас также размышлял над профессией хирурга. Но мне удалось заинтересовать его акупунктурой, тем более что шансов попасть в хирургическую группу практически не существовало. И мы оба записались на неврологию. В свободное время мы как оголтелые рыскали по библиотекам и всем возможным местам, где только можно было раздобыть книги и статьи по акупунктуре. Были книги, которые нам удавалось купить в магазине иностранной литературы на площади Мицкевича. Что-то попадалось на английском, что-то на немецком. Там нам удалось купить «Акупунктурную терапию в соответствии с китайской типологией» Гериберта Шмидта, «Хуан-ди Нэй Цзин» в немецком переводе Шнорренбергера, а также трёхтомный атлас по электропунктурной диагностике Фолля. В переводах англоязычной литературы по акупунктуре нам помогал Коля Кузнецов, который неплохо знал английский и перевёл учебник по иглотерапии Феликса Манна.
На кафедре неврологии мы попали в руки Матильды Александровны Бабадаглы. То была совершенно замечательная дама лет тридцати пяти, темноволосая, темноглазая, стройная, кандидат медицинских наук, большая умница. После краткого знакомства, оглядев нас с Тарасом критическим взглядом, она сказала: «Ну, не знаю, сумею ли я научить вас за выделенное нам время неврологии, но играть в канасту я вас научу. Присаживайтесь, молодые люди». Мы уселись за стол, а Матильда Александровна достала из стола две колоды карт… Но не подумайте, что наше обучение неврологии свелось к игре в канасту. Матильда Александровна была весьма строга и требовательна, и нам приходилось постоянно заглядывать в «Топическую диагностику заболеваний нервной системы» А. В. Триумфова.
Часть времени мы проводили на нейрохирургии, часть времени – на психиатрии. Изучали и психотерапию. В общем, к концу интернатуры какие-то зачатки знаний по неврологической специальности в нас были заложены. Параллельно мы с Тарасом осваивали иглотерапию. Но не только иглотерапия нас интересовала. Уже тогда нас привлекали различные нетрадиционные методы лечения. Мануальная терапия была одним из них. Мы даже переводили с немецкого книгу чешского мануального терапевта Карела Левита. В то время как при болевых синдромах позвоночника в неврологической клинике использовали обезболивающие, мази, массажи, различные электропроцедуры и держали в стационаре в среднем две недели, мануальная терапия позволяла решить проблему во многих случаях довольно быстро путём разблокирования заблокированных позвонков. Конечно, нужно помнить как о показаниях, так и о противопоказаниях к этому методу. Приведу один яркий случай. Я уже работал в приватной клинике, когда ко мне обратилась весьма пожилая дама, лет под семьдесят, которая вошла в кабинет, опираясь на палочку и прихрамывая. Она сообщила, что страдает болями в позвоночнике и в ноге уже несколько лет, что ей прописывали различные лекарства, мази, электропроцедуры. Но ничего не помогало. И вот она решила обратиться к нам. Я осмотрел пациентку. Болезненность определялась в области четвёртого-пятого поясничных позвонков, больше слева. Ощущения локального отёка не было. На рентгенограмме отмечалось небольшое смещение в области соответствующих позвонков. Во время манипуляции раздался громкий щелчок, как будто треснула сухая ветка. «Доктор, вы мне что-то сломали!» – запаниковала пациентка. «Не бойтесь, всё в порядке», – ответил я и поставил локально несколько игл. Через 20 минут я снял иглы и спросил пациентку про её ощущения. Она села на кушетке, затем осторожно опустила ноги и попыталась встать. Её глаза округлились от удивления. «Доктор, у меня ничего не болит!» Она оделась, периодически переступая с ноги на ногу, как бы проверяя свои ощущения. И, разулыбавшись и рассыпавшись в многословных благодарностях, покинула кабинет, забыв у вешалки свою палочку, за которой она так и не вернулась.
Читать дальше
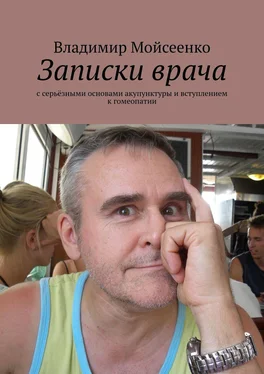

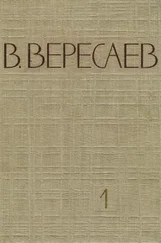

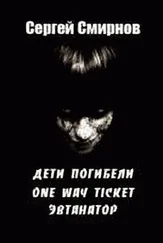


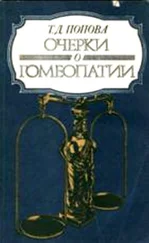
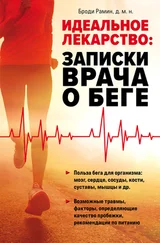
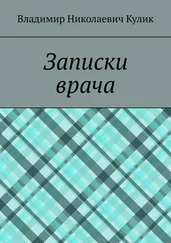
Хочу сказать что это Доктор ,который заслуживает уважения.