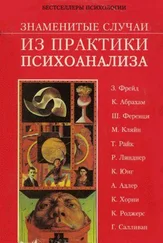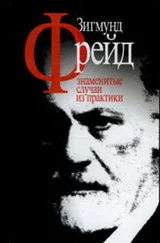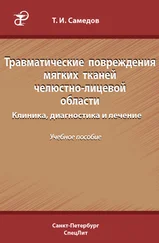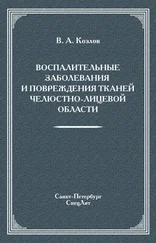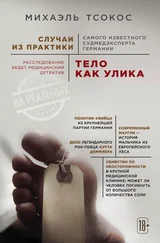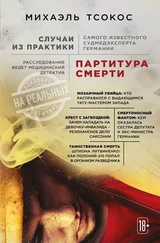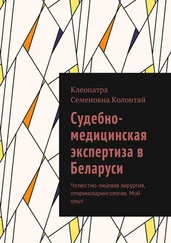Врачам приходится принимать судьбоносные решения постоянно, однако их пациенты тоже порой вынуждены этим заниматься. Именно пациенты, а не врачи, должны решать, прерывать ли беременность, отказываться ли от лечения по религиозным соображениям, продолжать ли лечение смертельной болезни на терминальной стадии, содействовать ли активно собственной смерти, попросив отключить аппарат искусственной вентиляции легких или диализный аппарат, поддерживающий в них жизнь, – решение, которое при других обстоятельствах было бы приравнено к самоубийству. Во всех этих случаях желание пациента должно быть первоочередным, но только при условии, как в случае Кэтлин, что его признают достаточно дееспособным и вменяемым для принятия этих решений с полным осознанием их последствий.
Пациент должен иметь право отказаться от лечения по религиозным соображениям, прервать беременность, попросить отключить аппарат, поддерживающий жизнь. Такие решения – не за врачами, а именно за пациентами, если они полностью осознают последствия.
Огромный технический прогресс, достигнутый во всех областях современной медицины, сделал этические дилеммы еще более острыми. Благодаря передовым технологиям детей с врожденной инвалидностью, которые в прежние времена, вне всяких сомнений, умерли бы при рождении, теперь удается спасать. Средняя продолжительность жизни человека также была значительно увеличена. Вместе с тем во всех этих случаях вопрос «качества жизни» играет еще более важную роль. Грубо говоря, суть в следующем: наличие у нас навыков и знаний, позволяющих проводить ту или иную процедуру, не всегда означает, что ее следует проводить. Это накладывает на медицинскую профессию бремя ответственности, которого раньше никогда не было.
Этические дилеммы, возникающие в подобных ситуациях, часто ужасающе сложны. Так, к примеру, кто захочет брать на себя обременительную ответственность и решать, тратить ли огромное количество больничного времени и ограниченных ресурсов для поддержания жизни преждевременно рожденных детей с тяжелой инвалидностью, которые, если им удастся выжить, будут на протяжении своей жизни испытывать постоянные физические страдания? Или, если рассматривать не начало, а конец жизни, кому захочется решать, продолжать ли реанимировать пожилого и чрезвычайно больного пациента, страдающего от нескончаемых рецидивов пневмонии и который, возможно, даже выразил желание умереть?
Желания пациентов, независимо от того, в состоянии ли они их выразить, без всякого сомнения, чрезвычайно важны, однако не менее важными могут быть и пожелания их близких. И нам, врачам, порой приходится разрешать очень мучительные дилеммы. Если та или иная процедура продлит пациенту жизнь, однако никак не облегчит его страдания, следует ли ее проводить? Решения в каждом таком случае обязательно должны приниматься коллективно, когда врач (или, как это все чаще бывает сейчас, междисциплинарный консилиум врачей и медсестер) объясняет оптимальный клинический курс действий и его последствия – а также последствия в случае, если эти действия не проводить, – в то время как полностью проинформированный и дееспособный пациент имеет право согласиться или отказаться от него в зависимости от своих желаний и обстоятельств.
Далеко не все этические дилеммы, с которыми мне приходилось иметь дело, были результатом чисто медицинских проблем. Одной моей пациентке по имени Фейс, которая была свидетельницей Иеговы, в результате опухоли верхней челюсти понадобилась экзентерация орбиты – удаление хирургическим путем глазного яблока с прилегающими тканями, включая веки, мышцы, нервы и жировую ткань вокруг глаза вместе с пораженными раком тканями верхней челюсти и ее пазух. Вместе с тем ее религиозные убеждения запрещали ей переливание крови, обычно необходимое из-за обильных кровопотерь во время операции. Потребность в переливании была бы еще больше, если бы мы использовали для реконструкции ее лица тазовую кость и брюшные мышцы – таким пациентам всегда требуется чужая кровь. После неудачных попыток ее переубедить и долгих раздумий, я с неохотой принял ее пожелания и, обсудив ситуацию со своими сотрудниками и коллегами-консультантами моей и других специальностей, придумал способ проведения операции с минимальной кровопотерей – реконструировать ей лицо без применения лоскута с бедра и живота. Я объяснил Фейс, что ей понадобится обтуратор [75] Расширенная версия верхнечелюстного протеза с зубами.
, чтобы закрыть отверстие посреди ее лица, ведущее к ныне пустой глазнице. Она сказала, что это полностью приемлемо, «если она будет в состоянии произнести имя “Иегова”», однако вынужденные ограничения делали эту процедуру необычайно нервной как для меня, так и для нее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу