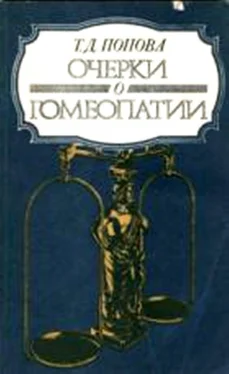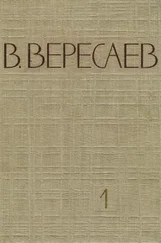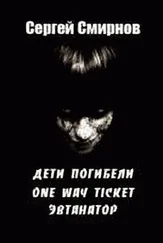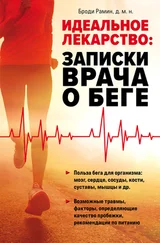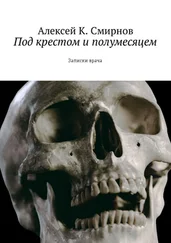В книге «Осложнения фармакотерапии» фармаколог И. С. Чекман пишет: «Еще И. П. Павлов указывал, что при сильном типе определенная доза кофеина повышает эффект раздражительного процесса, при слабом же понижает его, заводя за предел работоспособности клетки. Поэтому не только у злостных потребителей больших количеств кофеинсодержащих напитков, но также у лиц со слабым типом нервной системы повышенные дозы аналептика способствуют развитию общего беспокойства, раздражительности, психомоторного возбуждения, ощущения шума в ушах, искр или «летающих мушек» в поле зрения, расстройству сна, головной боли…» Такова научная подоплека различной чувствительности к кофеину.
В гомеопатии применяют не кофеин, а препарат, приготавливаемый из сырых бобов кофейного дерева — Coffea arabica. Называется он коффеа круда (по-латыни «круда» — неподжаренный). Известно, что он подходит для лечения людей, легко приходящих в возбуждение, доходящее до экзальтации. Причем это возбуждение касается всей сферы чувств. Это люди с живой фантазией, полные жизненных планов, но легко отчаивающиеся при неудачах, подвижные, тяжело переживающие душевные драмы. Они остро реагируют на запахи и резкие звуки; волнующие их мысли, даже эмоционально приятные, лишают их сна и душевного равновесия.
Кофейные бобы — это семена кофейного дерева, родиной которого считается Эфиопия. Название его связывают с арабским «кафва», что означает «вино». Оба напитка возбуждают и вызывают пристрастие. По старой легенде, возбуждающее действие бобов кофе людям «открыли» козы, которые, поев их, прыгали и резвились всю ночь, не испытывая потребности в сне.
Применялся ли первоначально кофе как напиток или как лекарство, сказать трудно. Изобретение напитка датируется по-разному: от IX до XII в. А если доверять легенде, что архангел Гавриил лечил кофе занемогшего Магомета, то эту дату надо передвинуть в VII в. Европу кофейный напиток завоевал в XVII в. Как лекарство отвар из сырых зерен применяли при разных заболеваниях: отравлениях, коликах, подагре, женских болезнях, перемежающейся лихорадке. Последнее особенно понятно: в это же время в Европе познакомились с противолихорадочным действием хинной корки, а кофейное и хинное деревья состоят в родстве и принадлежат к семейству мареновых — Rubiaceae.
Сейчас кофейное дерево — одна из самых распространенных тропических культур. Главный поставщик кофе на мировой рынок — Бразилия. В Эфиопии сохранились большие заросли дикого аравийского кофе, предка самого ценимого вида «арабика». «Огромную услугу оказал нам кофе из зерен дикого кофейного куста. Двух стаканов его было достаточно, чтобы не спать ночь, быть в хорошем настроении и исполнять обязанности сторожевого», — писал в своих воспоминаниях о путешествии по Эфиопии академик Н. И. Вавилов.
Во многих ботанических садах есть коллекции различных видов кофейного дерева. Оно хорошо разводится в домашних условиях, цветет и плодоносит.
Из гомеопатических руководств поры становления этого метода лечения мы знаем о диетических запретах гомеопатов. Наряду с пряностями, спиртными напитками запрещался и кофе. Большинство современных гомеопатов такого общего для всех совета не дает, стараясь и в этом вопросе соблюдать индивидуальный подход. Летом 1986 г. я смотрела видеозапись разбора больного старейшим гомеопатом США доктором Дж. Реннером. Он подробно расспрашивал пациентку о ее физиологических отправлениях, прошлых заболеваниях, болезнях родственников, ритме питания и предпочитаемой пище и подчеркивал, обращаясь к стоящим около него коллегам, как это все важно знать для правильного выбора лекарства. «А как Вы относитесь к кофе?» — спросил у врача кто-то из них. «Я пью его всю жизнь, а Вы, надеюсь, знаете, что мне 94 года», — ответил Реннер, импозантностью фигуры, большими выразительными руками и лукавой усмешкой напомнивший мне А. Вертинского, пребывавшего на эстраде до преклонного возраста.
Кто будет обладать ключом к лечению отека мозга, тот будет владеть ключом к жизни и смерти больного
И И. Бурденко

Мое первое и, увы, наверное, последнее знакомство с пчеловодством относится к младшему школьному возрасту, когда я в летние каникулы гостила у тетки, муж которой держал несколько ульев. Я часто заглядывала вместе с ним в ульи, когда он занимался пчелами, и любила, сев сбоку возле пчелиного домика, наблюдать за поведением пчел у летка. В моих наблюдениях участвовал молодой кот, которого я стала угощать трутнями, заметив, что он съедает пойманных им в саду жуков. Трутни очень пришлись ему по вкусу. В один из погожих дней я удостоилась колоссальной чести — меня посадили возле улья «стеречь рой». Все окончилось благополучно: рой плотной кучей вылетел из улья и, к моему счастью, живой копошащейся массой завис на ветке осокоря, росшего поблизости. Я успела оповестить о состоявшемся вылете, и новая пчелиная семья была водворена в приготовленный для нее улей. С тех пор мы ежедневно отправлялись с котом наблюдать ее жизнь. Но однажды мой постоянный спутник не пожелал сопровождать меня, дико вырываясь из рук и истошно воя, когда понял, в какую сторону я несу его. В недоумении я стала искать причину такого поведения и заметила, что у него асимметрично распухла мордочка, а прикосновение к этому месту причиняет боль. Видимо, он попытался ловить вкусных пчелок без меня — и был наказан. От дальнейших наблюдений мой четвероногий друг категорически отказывался и впредь, обходя опасное место на приличном расстоянии.
Читать дальше