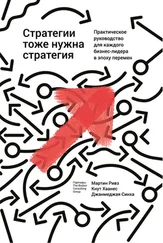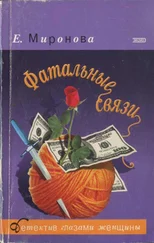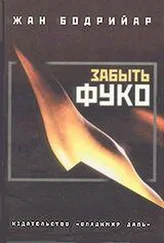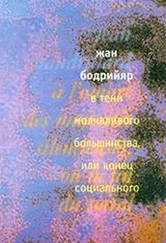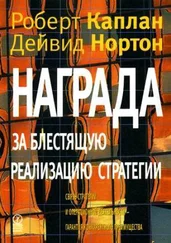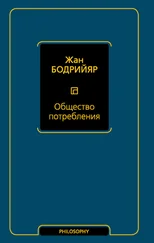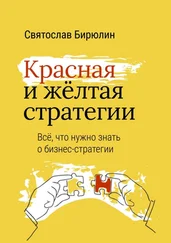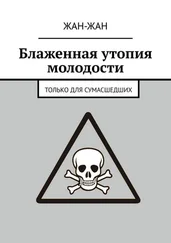Этому служит украшение – не мода со своей различительной системой, а украшение со своей силой размежевания с «природой». Мода является формой высвобождения тел и нарядов в комбинаторной и все более и более алеаторной игре. Украшение является необходимым и неизменным обязательным требованием церемониала. Оно является частью тактильного, имманентного, инициационного мира церемониала. (У зверей оно является даже частью генотипа, поэтому они и были для людей моделями, и принадлежит к церемониальному порядку, а отнюдь не к «естественному».) Мода принадлежит к современному, трансцендентному, подвижному, экзотерическому миру взгляда и репрезентации. Она зависит от прихотливого желания форм, эстетического и политического стремления к различию – знаки моды также отличительные знаки, они действуют в соответствии с универсальным кодом моды и вовлечены в концерт модерной субъективности, противостоящей архаичной, вневременной, размежевательной строгости украшения. (Мода, конечно, может приобретать форму коллективного заклинания, но это вовсе не жертвенный акт группы, как в церемониале. Даже бесконечно меняющаяся и разнообразная, она, по сути, является результатом процесса неразличения и скученности всех возможных форм.) Те же формы, которые были церемониальными, перешли в разряд моды, но тем не менее не следует их путать.
Никакого смешения, никакой скученности! В теории, так же как и в церемониале. Роль церемониала, как и любого ритуала, конечно же не в том, чтобы предотвращать «первобытную грубость [насилие]» (литургия вовсе не катарсис!) – это конрсмысл, столь же старый, как функционализм, нелепость всех идеализаторов основного насилия, [135]наивное религиозное искусство [saintsulpiciens] антропологии, – так же как роль теории не в том, чтобы диалектизировать и универсализировать понятия [concepts], наоборот: и теория, и церемониал насильственны. Их назначение в том, чтобы препятствовать вещам или понятиям беспорядочно контактировать, чтобы проводить размежевание, восстанавливать пустоты, заново разъединять то, что было смешано. Бороться с живородной обсценностью смешения понятий. Бороться с беспорядочной скученностью концептов. Вот что такое радикальная теория, и то же самое делал церемониал, отделяя инициационное от того, что таковым не является, – ведь он всегда инициационен, – то, что сочетается согласно правилу, и то, что этого не делает, – ведь он всегда распорядителен, – то, что пробуждается и то что угасает согласно самой своей кажимости, и то, что происходит согласно своему смыслу, – ведь он всегда жертвенен.
Когда знаки свидетельствуют уже не о судьбе, а лишь об истории, они больше не церемониальны. Когда за ними стоят социология, семиотика, психоанализ, они больше не ритуальны. Они теряют ту силу метаморфозы, которая присуща акту церемониала. Они становятся ближе к истине, но они теряют силу иллюзии. Они становятся ближе к реальному, к нашей сцене реального, но они теряют свой театр жестокости.
Существуют ли эти фатальные стратегии? Кажется, не сумел я ни очертить их, ни даже коснуться, да и сама эта гипотеза представляется скорее мечтой, настолько сила реального превосходит воображение. С чего вы взяли, что рассказываете об объекте? Объективность – это противоположность фатальности. Объект реален, а реальное подчиняется законам, и точка.
То есть против бредовости мира существует лишь ультиматум реализма. Это значит, что, если вы хотите избежать безумия мира, вы должны пожертвовать также и всем его шармом. Увеличивая свою бредовость, мир увеличивает и размер жертвы. Шантаж реален. Сегодня для выживания иллюзия уже не годится, она разрушается, приближаясь к недействительности [nullité] реального.
Пожалуй, существует лишь одна единственная фатальная стратегия: теория. И нет сомнения, что единственным различием между банальной и фатальной теориями является то, что в одной субъект по-прежнему считается коварнее, чем объект, а в другой предполагается, что объект всегда коварнее, циничнее, гениальнее, чем субъект, которого он иронически подстерегает за поворотом. Метаморфозы, хитрости, стратегии объекта непостижимы для субъекта. Объект не является ни двойником, ни вытесненным субъекта, ни его фантазмом, ни его галлюцинацией, ни его зеркалом, ни его отражением, но у него есть своя собственная стратегия, он является хранителем правила игры, которая непостижима для субъекта, и не потому, что глубоко таинственна, а потому, что бесконечно иронична.
Читать дальше