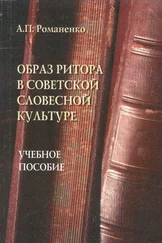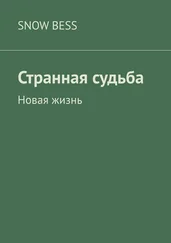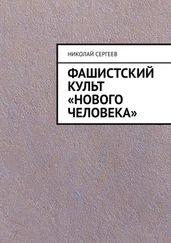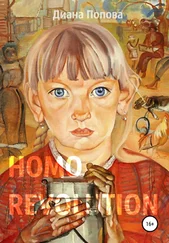В англосаксонском мире, а возможно, еще в большей степени в германских и славянских землях… смерть для солдат — это реализация себя… Таким образом, одобрения заслуживает солдат, который, к примеру, с готовностью жертвует своей жизнью из любви к своей стране, или ради прославленного вождя, или за идеалы наподобие фашизма либо коммунизма… Он использует смерть как способ доказать свою любовь и преданность чему-то потустороннему для него. Смерть приветствуется не сама по себе, а как признак его полнейшей преданности [362].
Хотя нам определенно следует избегать некоторых эссенциалистских и даже расистских клише по поводу «славянского мужчины», которые использует Гленн Грей, в обнаруживаемой им связи между отношением к смерти и идеологией присутствует определенная ценность. В данном случае неважно, происходило ли это в действительности на линии фронта — отправлялись ли солдаты в бой, выкрикивая имя Сталина, — это не отменяет тот факт, что Советское государство требовало от своих военнослужащих готовности отдать жизнь на страже Родины и ожидало от них этого. Учитывая этот момент, ожидаемо и то, что в послевоенную эпоху павший герой стал своего рода квинтэссенцией советской маскулинности, символом тех, чья преданность стране и народу неоспорима. Однако вместе с акцентом на нормализации и реставрации довоенных порядков, а не на восстановлении стран, образ погибшего солдата пропал из виду.
На протяжении почти всей оттепели репрезентация погибшего на войне по-прежнему будет отсутствовать, несмотря на утверждение Тумаркин, что картина Алексея Краснова «За землю родную» (1958), на которой изображено лежащее на вздыбленном поле боя тело солдата, чьи руки все еще сжимают автомат, «демонстрировала новое лицо войны в этот период. Принципиальная правда о Великой Отечественной войне заключалась не в том, что солдаты рвались в бой „за Родину, за Сталина“, а в том, что миллионы молодых мужчин с большими и сильными руками погибли, прильнув лицом к горькой русской земле» [363]. Однако было и несколько исключений: речь идет главным образом об изображении погибших партизан зарубежными художниками, художниками Прибалтики [364], а также назовем особо примечательную картину Бориса Неменского «Безымянная высота» (1961–1962), которая затем была переработана в произведение с названием «Это мы, Господи! (Безымянная высота)» (1961–1995). В интервью 2015 года Неменский вспоминает, как он пришел к замыслу этой работы и как ее тема по-прежнему актуальна для него и сегодня:
На дороге к Великим Лукам я присел, уставший, погрызть сухарь на выступавший из почвы пенек, а он оказался плечом убитого немецкого солдата, еще не вмерзшего в снег. Я перевернул его и поразился: парень моего возраста и чем-то очень похожий на меня, только рыжий. Это был первый фашист, которого я увидел «в лицо». Враг? Мальчишка? В дальнейшем я видел много убитых — и немцев, и наших солдат, лежащих часто рядом. Да и я мог так же лежать… Но год за годом этот эпизод для меня все больше становился началом раздумий вообще об истоках войн, истоках фашизма, несущего фактически братоубийство.
Эпизод породил серию эскизов с двумя погибшими солдатами — сначала на прекрасной весенней цветущей земле, потом написал несколько вариантов картины. Они и в Аахене, и в Токио, и в Омске, и в Москве. Последний вариант «Это мы, Господи» с вопросом к себе и ко всем: доколе? [365]
Как признает сам Неменский, во время первого показа его картины она вызвала неоднозначную реакцию, однако некоторые из увидевших ее открыто утверждали, что именно так следует изображать конфликт в искусстве, поскольку в работе «было раскрыто моральное превосходство советского солдата — даже в смерти» [366]. По утверждению художника, картина спровоцировала такой ажиотаж, что Константин Симонов организовал ее показ в Центральном доме писателя, чтобы стимулировать обсуждение поднятых ею проблем с участием других деятелей культуры [367]. Но, какими бы неоднозначными и вдохновляющими ни были произведения Неменского, их репродукции, похоже, не публиковались в профессиональной или популярной прессе ни в то время, ни в последующее десятилетие.
Вместе с рассмотренными выше картинами, изображавшими взаимоотношения между живым и мертвым товарищами, образ павшего советского солдата стал появляться в советской визуальной культуре с беспрецедентной регулярностью, хотя количество таких работ в общей массе художественной продукции на тот момент оставалось небольшим. Латвийский художник Эдгар Илтнер, отступив от своего привычного стиля, создал один из самых выразительных образов на эту тему на картине «Бессмертие» (1968). Работа представляет собой переработанный сюжет оплакивания Христа. Четверо солдат на фоне яркого рассветного неба поднимают ввысь тело своего мертвого товарища: единообразие их внешних обликов создает ощущение взаимозаменяемости каждого из них и служит тому, чтобы подчеркнуть силу их коллективной связи, которая не прервана даже смертью [368]. Возвышенное положение погибшего солдата говорит не только о постоянстве памяти и товарищества, но и о ноше жизни, которая должна быть достойна его жертвы, поскольку живые изображены буквально несущими груз мертвого человека на себе. Как и в «Хозяевах земли» — более ранней картине с совершенно другой тематикой, — Илтнер вновь изображает своих героев воплощающими советского человека вообще, на сей раз посредством использования простых фигур, лишенных каких-либо индивидуальных черт: это мог быть любой солдат, это мог быть каждый солдат.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу