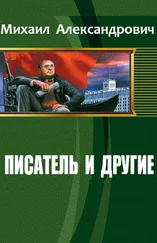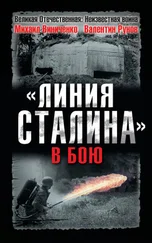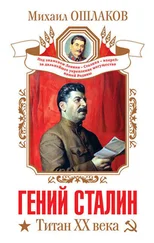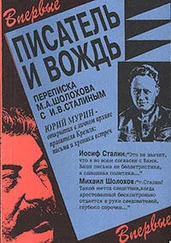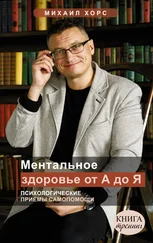См., например: Коэн С. Бухарин. С. 321 и след.
Сталин И. Соч. Т. 16. С. 283.
Семанов С., Кардашов В. Иосиф Сталин: Жизнь и наследие. С. 205.
Волкогонов Дм. Кн. II. Ч. 1. С. 194–195.
Там же. Кн. II. Ч. 2. С. 202. Удивляет боязливая уклончивость атрибуции: «приписывал Сталину». Можно подумать, будто Берия решился бы фальсифицировать сталинские указания. Сентенции такого рода вообще очень характерны для Сталина. Ср. его тезис о том, что в постоянном улучшении «материального положения» советских людей «могут сомневаться только заклятые враги Советской власти» (1933).
Сталин И. Т. 16 . С. 305.
Габараев С. Ш. К вопросу о народном мировоззрении в нартском эпосе // Сказания о нартах: Эпос народов Кавказа. С. 80–81.
С драматургическими склонностями Сталина Р. Такер связывает то обстоятельство, что при нем «судебные заседания стали походить на драматический спектакль, как, например, шахтинский процесс» ( Такер Р. Сталин у власти: История и личность. С. 148, 501).
По поводу этой и похожих фраз Солженицын в «Круге первом» с иронией подчеркивает религиозно-телеологический характер сталинских лингвистических пассажей («Ангел средневековой телеологии улыбался через его плечо». — Солженицын А. Указ. соч. С. 139).
См.: Волкогонов Дм. Кн. II. Ч. 2. С. 154; Ципко А. О зонах, закрытых для мысли // Суровая драма народа. С. 188. (Там же (с. 189) см. о сильном влиянии Преображенского на сталинские идеи в области экономики.)
Его формула озадачивала даже истовых сталинистов. Ср. не совсем вразумительное возражение Молотова: «Как может экономика сама ставить задачу обеспечения? Это могут быть движущие силы, конечно, идеологические, психологические. И считать это объективным законом, а он указывает в начале, что объективный закон — это закон, действующий независимо от воли человека…» (Сто сорок бесед с Молотовым. С. 453).
Солженицын А. Указ. соч. С. 137.
Из статей, посвященных сталинскому лингвистическому трактату, заслуживает внимания работа, где отмечена любопытная перекличка между ним и некоторыми направлениями западной философии (поздний Витгенштейн и др.); там же см. упоминание о «гераклитовском» характере сталинской версии диалектического материализма. — Smith E. Stalin and the Linguistic Turn in Soviet Philosophy // Wiener Slawistischer Almanach. 1999. Bd. 43.
Семенов Ю. Отчаяние // Детектив и политика. М., 1989. Вып. 2. С. 214.
Аналогичная тенденция проглядывает в его убогой военной доктрине, где он упорно подчеркивает «решающее значение» « постоянно действующих факторов» — и в 1947 году даже заставляет особо выделить этот стратегический вклад в своей «Краткой биографии».
Ср. весомое свидетельство Молотова: «Не зря Сталин занялся вопросами языкознания. Он считал, что когда победит мировая коммунистическая система, а он все дело к этому вел, главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет язык Пушкина и Ленина…» (Сто сорок бесед с Молотовым. С. 268–269).
См.: Такер Р. Сталин у власти. С. 439.
Громов Е. Указ. соч. С. 44–45.
Советский фольклор. С. 95–96. Понятно, что если Сталин — это Ленин сегодня, то Ленин — это Сталин вчера, и приметы вождей взаимозаменимы, хотя предпочтение, естественно, отдается новому правителю. Не стоит все же переоценивать искренность народных льстецов. Порой они так проговариваются, что остается лишь поражаться невежеству цензуры. Прославленная Марфа Крюкова, к примеру, изобразила Ленина в следующем виде: «Он сидит за столиком дубовым же, / Он на стулике на дубовом же, / Он и пишет рукописаньице, / Рукописаньице великое, / Ишше было чего пописать ему, / Как вся вселенна под видом была » (Советский фольклор. С. 141). Это, конечно, портрет сатаны, поработившего весь мир, из знаменитого апокрифа о «рукописании Адамовом».
Там же. С. 157.
См. замечательное определение Авторханова: «Его самовосхваление было вовсе не „самолюбованием“, самоцелью, а обдуманной системой самоутверждения верховного бога в интересах большевистского режима. Его личные интересы при создании этого бога были подчинены интересам большевизма, претендующего на владение абсолютной истиной во всей истории человечества. Абсолютная истина — это и значит большевистский бог, персонифицировавшийся в имени „Сталин“. Партия подняла своего бога на такую недосягаемую высоту, что иной раз сама личность Сталина отрывается от общего объекта поклонения — от „бога-Сталина“. Совсем не случайно он часто говорил о себе в третьем лице <���…> Этому богу добровольно молилась вся партия, принудительно — весь народ; сам Сталин ему тоже молился. Вот почему Сталин занимался не возвеличиванием себя, а воздаянием положенной церемонией дани своему второму „я“ — „богу-Сталину“» ( Авторханов А. Загадка смерти Сталина (Заговор Берия). С. 113). См. также: Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 114.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Михаил Вайскопф Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.] обложка книги](/books/430618/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd-cover.webp)