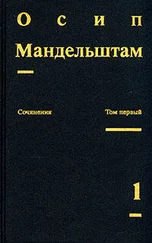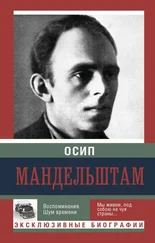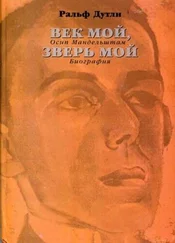Главка 9 [122], расположенная ровно посередине (восемь главок перед ней и восемь после), заканчивается единственным во всем тексте «положительным» тезисом-утверждением («Я люблю их [Ленина и Сталина; большевиков] язык. Он мой язык»). Она же – через стих Есенина «Не расстреливал несчастных по темницам…» – вводит важнейшую для Мандельштама тему «гуманизма». Однако, против ожидания, поэт никак не увязывает с ней (в отрицательном смысле) вождей большевиков (Ленина и Сталина; характерно их упоминание рядом). Декларируя «гуманизм» как «символ веры» «настоящего писателя – смертельного врага литературы» (той самой, которую поэт «презирает»), Мандельштам через фигуру «разрешенного большевиками» филолога «Митьки Благого» (метонимически связанного с олицетворяющим «разрешенную» же литературу Домом Герцена) противопоставляет «новую» филологию, паразитирующую на мертвой/убитой поэзии, – старой, «нетерпимой» к фальши [123]. При этом со старой, «подлинной» филологией парадоксальным образом стыкуется образ партийных чисток, проводимых Сталиным в борьбе за генеральную линию партии, – с их строгостью в поиске и выборе формулировок партийного языка. Этот партийный язык объявляется Мандельштамом своим. Напомним, это единственное «положительное», не поставленное под вопрос стилистической иронией или сарказмом, утверждение автора во всей вещи. Если верна датировка М.Д. Вольпина, то именно к периоду написания «Четвертой прозы» относится реплика Мандельштама, заявившего ему в ответ на возмущение писательским безразличием по отношению к ужасам советской жизни: «Ну, знаете, вы не замечаете бронзового профиля Истории!» [124]
Разумеется, к «Четвертой прозе» вполне применимо наблюдение Е.А. Тоддеса по поводу «непредсказуемого „анархо-эстетического" характера <���…> рассуждений» [125]Мандельштама, и наивно было бы искать в ней воплощения последовательной социополитической программы. Раздвоенность, растерянность видны в переписке Мандельштама этого времени, где он в границах одного письма то упоминает о том, что в газете, где он работает, «не люди, а рыбы страшные», то вспоминает, что ему «люди нужны, товарищи, как в „Московском> Комсомольце”» (письмо Н.Я. Мандельштам, 13 марта 1930 года: III: 498-499). Эта же амбивалентность хорошо видна в оценке Мандельштамом собственно комсомола, с одной стороны, предстающего в «Четвертой прозе» в образе «барчука», приучаемого «агитмамушками, бабушками, нянюшками» (то есть партийцами, «старшими товарищами» комсомольцев) к жестокости («Вдарь, Васенька, вдарь!»), а с другой – униженного «старшими» и таящего в себе потенциал некоего бунта («оппозиционности») – именно через этот подтекст раскрывается загадочный, на первый взгляд, образ «старейшего комсомольца – Акакия Акакиевича» [126].
Начавшаяся в августе 1929 года травля Пильняка и Замятина приводит к фактическому разгрому прежнего «беспартийного» Всероссийского союза писателей [127]и полному «огосударствлению» литературы – «это была первая в истории русской культуры широко организованная кампания не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом и ее автономного от государства существования» [128]. (Мандельштам, используя большевистскую фразеологию, назвал ее в цитировавшемся в связи с его переговорами с Авербахом письме в ЦКК ВКП(б) «острой перегруппировкой писательских сил» [129]и именно на ее фоне собирался выступать в сентябре 1929 года с политическим заявлением на 2-м пленуме РАППа.) В обстановке резкой политизации литературной жизни в начале 1930 года ЦКК ВКП(б) начинает проверку «дела о переводах», длившегося все это время и закончившегося было в декабре 1929 года «смягченной в отношении Мандельштама» [130]резолюцией. Мандельштам (как, впрочем, и Ионов и Канатчиков) подвергается многочасовым допросам/собеседованиям, в ходе которых следователи интересуются его прошлым и особенно пребыванием в «белом» Крыму [131].
Поэт совершенно деморализован: многомесячный скандал нанес его репутации ощутимый ущерб (видимо, именно из-за этого устроители рапповского пленума решили не давать ему слово и его сближение с Авербахом ограничилось получением газетной работы); в писательской среде распространяются слухи о том, что он болен манией преследования [132]или покончил с собой [133]; в февральский приезд 1930 года в Ленинград он не встречается ни с кем из писателей и, очевидно, напуганный комиссией ЦКК, запрещает жене распространять его «Открытое письмо советским писателям» (III: 497). При этом манифестированный в этом письме разрыв с ФОСП и в целом с литературной средой он считает ценностью, которую надо сохранить во что бы ни стало («Разрыв – богатство. Надо его сохранить. Не расплескать» [III: 499]).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу