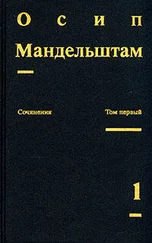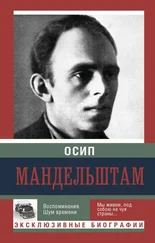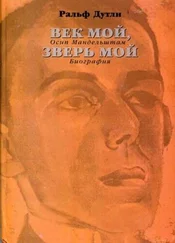Еще 27 июня 1929 года Д.И. Выгодский записывает в дневнике рассказ Е.К. Лившиц: «Мандельштам заявил, что он больше не русский писатель, что писать больше не будет, что хочет поступить на службу» [109]. Неудачную попытку «бросить эту каторгу [переводы] и перейти на живой человеческий труд» (из письма Мандельштама отцу от середины февраля 1929 года: III: 474) поэт предпринял в самом начале «дела о переводах», зимой 1929 года в Киеве. Очевидно, именно помощь Авербаха позволила реализовать эту (спасительную в материальном смысле) идею в Москве: в августе 1929 года Мандельштам поступает на работу в редакцию «Московского комсомольца» [110]:
«Комсомольский литературный молодняк нуждается в старших союзниках», – пишет он члену правления РАППа В.М. Саянову 24 августа, приглашая к сотрудничеству в газете (III: 485 ) [111].
Представляется, что «союзничество» Мандельштама с Авербахом (чьей деятельности литературного критика он отдавал должное [112]) и РАППом было продиктовано не только конъюнктурными соображениями, и когда поэт (в связи с переговорами с Авербахом) говорит о «подготовлявшихся [им] политических выступлениях», от которых его «заставила временно <���…> воздержаться <���…> клеветническая кампания», «выбившая» его из «литстроя» и «заранее обесценившая» [113]их, речь идет не о ритуальных формулах лояльности, а о реальном сближении Мандельштама с одним из полюсов социокультурной жизни СССР. Несомненно, прав Е.А. Тоддес, призывающий видеть в стилистике текстов Мандельштама в «Известиях» и особенно «На литературном посту» (которые он деликатно характеризует как «использующие элементы новоречи») «скорее сознательную установку автора, чем результат редакционного воздействия» [114].
Конфликт с ФОСП (начинавшийся как конфликт со «старой» литературой в лице Горнфельда) до предела обострил у Мандельштама ощущения эксплуатируемого, нуждающегося и борющегося за свои законные права члена социума. «Я, дорогие товарищи, не ангел в ризах, накрахмаленных Львовым-Рогачевским, но труженик, чернорабочий слова», – писал он в «Открытом письме советским писателям» (III: 488). Призма классового подхода [115]позволяла в этом случае идентифицировать себя как пролетария — тем более в противопоставлении, с одной стороны, со «старой» элитой (Горнфельд) и, с другой, с несравнимо более обеспеченными «рыночными» советскими авторами и стоящими с ними в одной связке чиновниками от литературы, чьи отношения с РАППом были, по преимуществу, как раз конфликтными. Не случайно упоминание о «великом, могучем, запретном понятии класса» возникает у Мандельштама в написанной как итог «дела о переводах» «Четвертой прозе» – заменившей для поэта подготовлявшуюся, но не произнесенную им на пленуме РАППа политическую речь.
История текста «Четвертой прозы», написанной на рубеже 1929-1930 годов, определяет трудность интерпретации этой вещи. По сообщению Н.Я. Мандельштам середины 1960-х годов, сохраненному А.А. Морозовым, в Воронеже ею была уничтожена первая главка текста. «В ней было: Кому нужен этот социализм, и если бы люди договорились построить ренессанс, то вышло бы не Возрождение, а в лучшем случае ресторан или кафе Ренессанс. Это не цитата, а передача смысла» (II: 690). Кроме того, Н.Я. Мандельштам исключила из текста заключительный фрагмент восьмой главки [116], следующий непосредственно за известным пассажем про филологию: «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся крев, стала – всетерпимость…» Приведем этот текст, восстановленный А.А. Морозовым в примечаниях к изданию 2002 года [117]:
Кто же, братишки, по-вашему больший филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов, – или Митька Благой с веревкой? По-моему – Сталин. По-моему – Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык.
Исключенный вдовой поэта в эпоху, точно названную Э.Г. Герштейн «периодом восстановления ею авторитета Осипа Мандельштама как поэта и общественного деятеля» [118], этот фрагмент по недоразумению не вошел в основной текст «Четвертой прозы» в Полном собрании сочинений и писем Мандельштама (2010, 2O17) [119]. Безо всякого сомнения он меняет смысл всей вещи, не позволяя более говорить, что в «Четвертой прозе» поэт «окончательно сводит счеты со сталинизмом и литературными марионетками сталинской эпохи» [120].
Энергия, которой движется «Четвертая проза», есть энергия отторжения. В ее основе самоощущение человека, остро чувствующего свою конфронтацию с устоявшимися социальными структурами, если не десоциализацию. Эта конфликтность находит прямое отражение на уровне поэтики. Текст состоял из семнадцати главок. Первая (уничтоженная), судя по дальнейшему изложению, служила своего рода экспозицией, вводя развитую и детализированную в главке 2 тему «невероятного дела спасения [от расстрела] пятерых жизней» [121]. Все остальные главки, варьируя четыре сюжета (борьба за арестованных, перипетии «дела Уленшпигеля», несостоявшаяся поездка в Ереван и служба Мандельштама в «Московском комсомольце»), структурированы одинаково – каждая из них строится вокруг некоей «взрывающей» текст оппозиции (гл. 2: пролетариат vs. буржуазия; гл. 3: комсомол vs. «агитмамушки» [ВКП(б)]; гл. 4: автор vs. сотрудники газетного объединения «Московская правда»; гл. 5: автор vs. ЦЕКУБУ; гл. 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16: автор vs. писатели/«литература»; гл. 8, 16: автор vs. социум; гл. 9: Благой vs. Сталин/Ленин, «старая» филология vs. «новая»; гл. 11: «правда/правдочка» vs. «Правда-Партия»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу