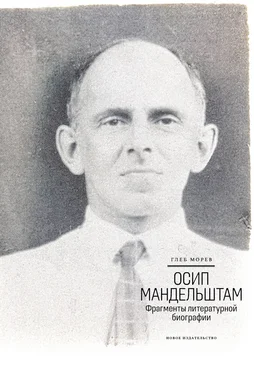Публикация в «Русском современнике» стала последним значимым печатным выступлением Ахматовой как участницы актуального литературного процесса до 1940 года [152]. Очевидно, после московского вечера и выхода журнала, вызвавших резкие отклики официозной печати [153], было принято решение (скорее всего, по линии Главлита) ужесточить контроль за ахматовскими текстами, причем внимание в первую очередь обращалось на религиозную тематику («мистицизм») [154]. Цензурные придирки и ограничения сделали невозможным издание двухтомного собрания стихотворений Ахматовой, подготовленного к печати в издательстве «Петроград» в 1926 году (попытки публикации двухтомника продолжались до 1930 года). Со все возрастающими цензурными трудностями сталкиваются в это время все непартийные писатели, в том числе и те авторы, которые составляют ближайший к Ахматовой контекст «ленинградского Петербурга» [155](прежде всего, Сологуб, Кузмин и Клюев). Однако «ответная» стратегия литературного поведения, которую в данной ситуации выбирает Ахматова, беспрецедентна.
В отличие от Сологуба и Кузмина, Ахматова никак не участвует в дающей литературный заработок переводческой деятельности. Она не предпринимает дальнейших попыток печататься и индифферентно относится к судьбе своего двухтомного собрания, устраняясь от хлопот за него в цензуре. «Смешная она, – сообщал об Ахматовой 8 июля 1930 года П.А. Павленко (которому предстоит сыграть свою роль в судьбе Мандельштама) в письме Н.С. Тихонову. – Ей тут Д. Бедный предложил издать книгу ее стихов, правда, со своим предисловием, но она отказалась, хоть ее и уговаривали всячески» [156].
Если взглянуть на составленный Ахматовой в 1962 году список своих выступлений, то виден значительный перерыв, датируемый 1924-1940 годами [157]. Позднее утверждение Ахматовой «меня перестали <���…> приглашать на литер<���атурные> вечера» опровергается данными дневников Лукницкого, с 1925 года фиксирующего многочисленные отказы Ахматовой от приглашений выступить с чтением своих стихов [158]. Единственное исключение было сделано ею для закрытого вечера 5 марта 1928 года в помещении Ленинградского отделения ВСП, посвященного памяти Ф.К. Сологуба, патриарха дооктябрьской литературы в Ленинграде, самое имя которого указывало на отчетливо внесоветский контекст происходящего [159].
Эта позиция Ахматовой нашла выражение в ее стихах, названных «Ответ» и датируемых в записной книжке, куда они были занесены ею в начале 1963 года, «30-ми годами»:
И вовсе я не пророчица —
Жизнь светла, как горный ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей [160].
Здесь же очевидный исток «грандиозной» [161](и болезненной) темы «молчания» в поэзии Ахматовой, раскрываемой не только через ее «малопродуктивное™» во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х годов, но и через поздние автоинтерпретации (ср. в незавершенной «Седьмой» [1958-1964] из «Северных элегий»:
А я молчу, я тридцать лет молчу. <���… >
Кто мог придумать мне такую роль? <���… >
Оно мою почти сожрало душу,
Оно мою уродует судьбу,
Но я его когда-нибудь нарушу,
Чтоб смерть позвать к позорному столбу [162]).
Дистанцирование Ахматовой от любых форм участия в советской литературной жизни и зависимости от государства имело следствием крайнюю затрудненность ее бытовой жизни. «Гордыню» Ахматовой Л.К. Чуковская описала впоследствии как идейную основу ее стратегии сопротивления и самосохранения одновременно: «Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе она – поэзия, она – величие, она, а не власть, унижающая ее, – это сознание давало ей силы переносить нищету, унижение, горе. Хамству и власти она противопоставляла гордыню и молчаливую неукротимость» [163]. Принципиальный характер этой позиции подтверждается суждениями Ахматовой, зафиксированными Лукницким; важнейшим из них является запись от начала марта 1928 года, сделанная вскоре после приезда в Ленинград Б.А. Пильняка [164], убеждавшего Ахматову, что для решения ее бытовых проблем необходимо съездить в Москву и посетить столичное литературное и политическое начальство:
А.А., конечно, от поездки отказалась. (А ведь как все просто делается: если б А.А. поехала в Москву и немножко там – по ее же выражению, – «помяукала», – ей, конечно, достали бы и заграничный паспорт и устроили бы поездку за границу и вообще, из поездки в Москву она могла бы извлечь любые выгоды, ценой проявления хотя бы самой наималейшей сделки со своей совестью. Но… А.А. не поступается своей совестью, никогда, и ни в какой степени, руководствуясь принципом, что из этого удовольствия мало бывает, а позор все тот же, большой.) [165]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу